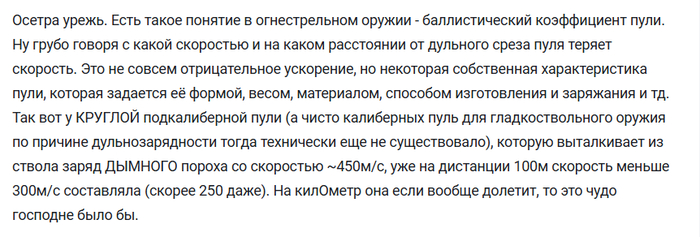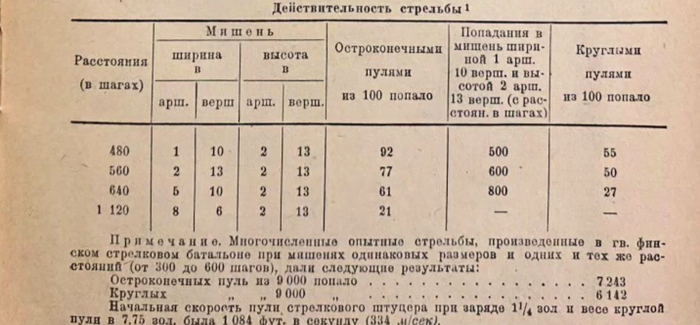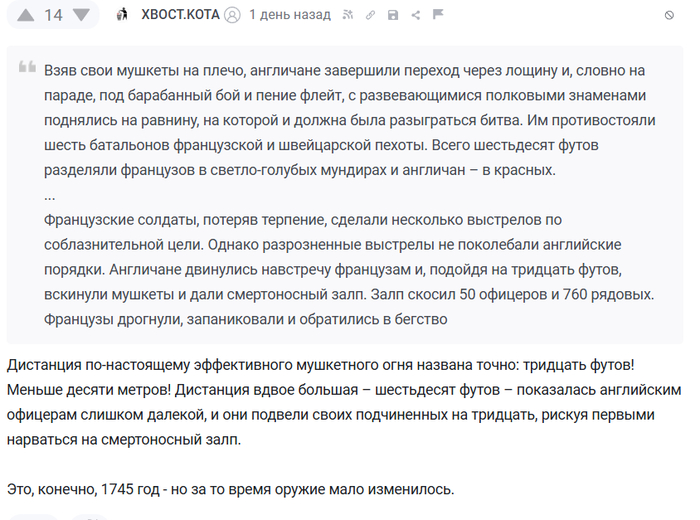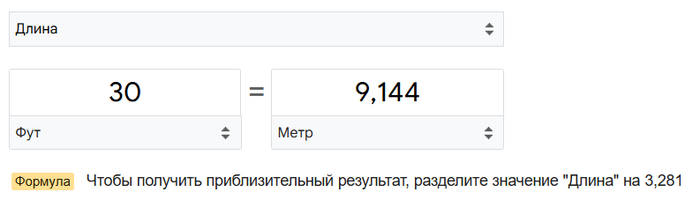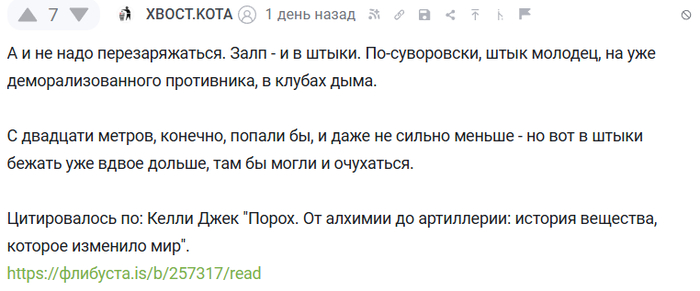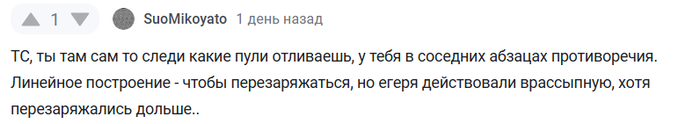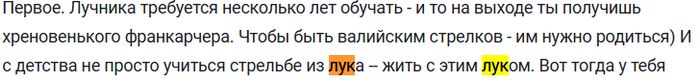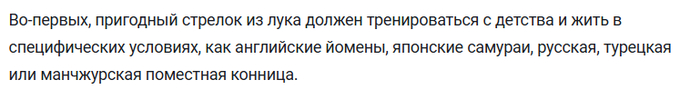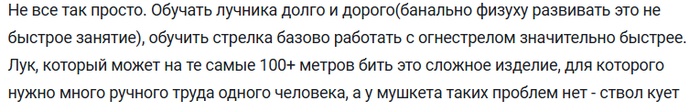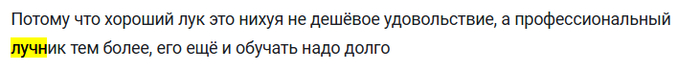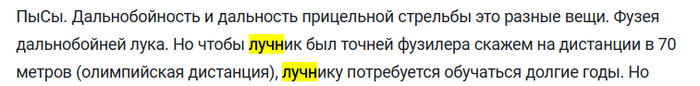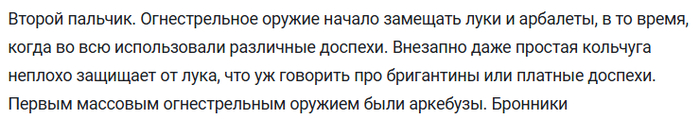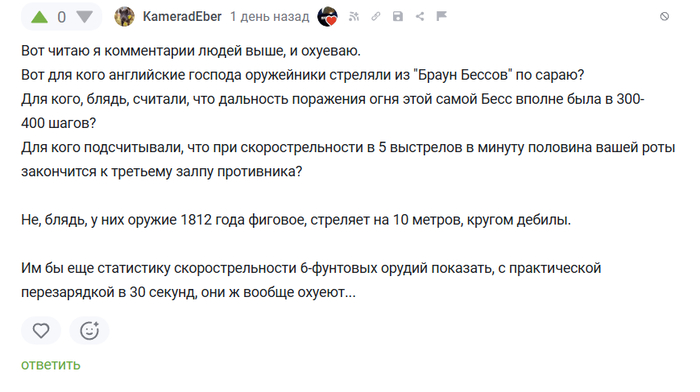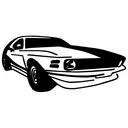Двое вышли из леса
Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаю публикацию работ нашего двоюродного дедушки, журналиста Эдвина Поляновского.
Предыдущий пост с заметкой "Персональный вентилятор" про конфликт в самолете из-за вентилятора из "Известий" 1970 года доступен по ссылке.
Напоминаю, цель публикации работ - познакомить с обществом тех лет. Первоначально в очерках, которыми я хотел поделиться, были темы, которыми я хотел донести идеи, не "как-то очернить СССР" или еще что-то подобное, а понять, что проблемы в обществе были всегда. Вопрос как на них реагировали и как их решали.
Сегодня у нас очерк "Двое вышли из леса" вышедший 1 февраля 1972 года, в "Известиях" №072.
В лесу остро чувствуешь мудрую вечность природы. И в этой вечности постигаешь какой-то великий секрет и смысл жизни. И до тебя все это было — ели, березы, эти вот сосны, и после тебя, через века будет здесь та же первозданность. В лесу с немым недоумением заново открываешь давно открытое. Появляются вдруг новые крепкие связи с жизнью.
И еще в лесу чувствуешь духовное очищение, обновление. Чувствование здесь замешено на всех запахах земли, оно сильно и властно. Как это у Паустовского: леса — «величественны, как кафедральные соборы».
Впрочем, для людей, с которыми вышагиваю я по снежной лесной целине, природа — не храм, а мастерская, и они в ней — работники. Анатолий Иванович Казин — председатель районного общества охотников и рыболовов, Иван Иванович Бондарев — егерь. В районе есть и другие егеря, и охотников тут сотни, но я выбрал именно этих людей, именно их.
От Рузы до Теряева добрались мы на автобусе, перешли шоссе и вышли сюда, на воспроизводственный участок. Охота тут строжайше запрещена, зверью — вольная воля. «Только собак наганиваем, тренируем, значит,— объясняет Казин,— чтоб без дела не засиделись».
Сначала шли полем, по лыжне. Шли цепочкой — Казин, я, Бондарев. Когда лыжня пропадала, уходила в сторону, шли по снежной целине, ступая валенками след в след, чтобы не расходовать силы зря. Казин вроде бы мимоходом, но цепко схватывает все вокруг.
— Вот заяц прошел. Следы видите? Беляк. Шел во-он оттуда, из оврага, к лесу. К кормушке.
Через несколько шагов Казин снова останавливается.
— А вот лисица мышь задрала. Видите?
Ничего не вижу. Казин наклоняется и поднимает маленькие, чуть видно, волоски шерсти.
— Полевая мышь вот отсюда бежала, видите — точечки на снегу, это ее следы, а сбоку еще следы, это — лиса. И вот,— Казин бросает на снег шерстинки,— все, что осталось от мыши.
Для Казина это пустое поле и этот притихший впереди лес заполнены жизнью. Он слышит все звуки и шорохи, по следам видит, кто, откуда, куда и зачем шел. И даже когда шел. Мне все это очень интересно, существует и открывается неведомая доселе вторая жизнь, и Казин — богатый должен быть человек, раз он эту вторую жизнь постиг.
Но Татаринов-то, Татаринов… Что ж они оба о нем ни слова? Я же не зря именно с ними в лес пошел. Что ж молчат о нем?
Кончилось поле, вступили в лес.
— Знаешь, Иван Иванович,— говорит Казин.— Данилин просил выделить тридцать человек на расчистку просек. Слышь?
— А где мы их возьмем,— отвечает сзади Бондарев,— пусть объявление через газету дают.
Спрошу, спрошу сам, где они его, Татаринова… А что «они его»? Оставили, бросили? Вроде не бросали.
На развилке остановились, Казин сказал вдруг:
— Здесь мы разошлись…
«Разошлись». Вроде как на равных. Но ведь Татаринов отстал.
— Да-а, он позади был. И вот сюда, влево пошел… В общем, мы-то сейчас как пойдем? По нашему маршруту или по его?
Мне интересно знать, где они его потом нашли.
— По его, по его пути.
Петляем долго и немыслимо. Видно, Татаринов действительно плохо знал лес, да и пурга была тогда ужасная. Снова оказались на каком-то поле.
— Вот тут,— показывает Бондарев,— мы его разыскали.
Остановились — старый ивняк и четыре березы на опушке леса.
— Тут,— подтверждает Казин.— Спасибо собака помогла, так бы не нашли.
— Точно-точно,— оживляется Бондарев,— идем, значит, с поисковой партией, смотрим — какая-то собака по опушке бегает и лает, зовет. Ну, один там из наших, с фабрики, он впереди всех был, подбегает, видит — Татаринов. Лежит. «Ну, Федор Григорьевич,— кричит,— ты тут разлегся, а мы с ног сбились!»
Тут, на опушке, я еще раз вспоминаю и оцениваю то, что случилось.
15 октября, в пятницу, заседало правление общества охотников. «На воспроизводственном участке браконьеров много,— доложил один из членов правления,— я слышал там недавно выстрелы. Стал считать — семнадцать выстрелов». «Завтра же пойдем посмотрим,— сказал Казин Татаринову,— возьмем Бондарева».
Наутро, в начале седьмого, несмотря на отчаянную пургу, все трое, как и договорились, отправились в лес. Как говорит Казин, он за всю свою жизнь такой метели здесь не видел. Сквозь отчаянные завывания ветра где-то рядом, в темноте, словно хлопали ружейные выстрелы — это ломались и падали под ветром провисшие от тяжелого снега деревья. Проваливались по колено в снег, под которым лежала незамерзшая грязь.
Прошли низину. У развилки Татаринов отстал.
— Где ты? — окликнул его Бондарев.
— Тут я,— донесся откуда-то из-за ветра голос Татаринова.
Двинулись дальше. Когда через некоторое время снова окликнули Татаринова, ответа не было. Позвали еще раз — только ветер воет. Двинулись дальше. Заговорили о лицензиях. О том, что, дескать, дали вот им три лицензии на отстрел кабанов, а как делить их — недовольные будут, как всегда…
Оба — и Казин, и Бондарев — утверждают, что искали Татаринова. Прошли, как говорят, дорогу на Звенигород, высоковольтную линию, покрутились. Вышли на Валыгинское поле — нет никого. Зашли в будку комбината декоративного садоводства. Обсушились.
— А ведь Татаринов-то нездоров, Анатолий Иванович,— сказал Бондарев.— Жаловался мне, что давление опять поднялось…
— Да-а,— неопределенно ответил Казин.— Да нет, зайца, наверно, решил подстрелить. Придет.
Обсушились. Погрелись. Перекусили.
Когда возвращались домой, спросил уже Казин:
— Поищем, вернемся?
— Да он уж, поди, дома чай пьет.
Так они шли, поочередно выказывая ленивое беспокойство и тут же уговаривая себя не волноваться.
А метель свирепствовала. Казин — молодой и крепкий — обычно за день проходил и 40, и 50 километров, хоть бы что, а тут… Хотели даже, признаются сейчас, ружья побросать.
Домой вернулись к обеду. Бондарев живет рядом с Татариновым. Соседи. Вернувшись, он не зашел к Татариновым. Почувствовал вдруг тревогу? Побоялся ли, ждал ли чего-то? (Как будто можно было отсидеться до лучшей поры.) К шести вечера прибежала взволнованная жена Татаринова: где Федор? Бондарев испугался: «А что, не пришел? Да он с Казиным вроде был…» — залепетал невразумительное.
Потом Бондарев сообщил о беде в милицию. Позвонил Казину.
Утром 17 октября, это было воскресенье, к Бондареву постучалась дочь Татаринова — Анна.
— Иван Иванович, дорогой, пойдемте в лес, покажите, где шли…
— Не могу, радикулит у меня… — и Бондарев закрыл дверь.
На поиски пошел было муж Анны, но вернулся ни с чем.
Собрался народ у дома Татариновых, хотели идти всем миром в лес. Но куда? Ни Бондарева, ни Казина нигде не нашли. (Как оба говорят теперь, в это время они вдвоем тоже искали Татаринова… в подсобном хозяйстве Дорохово, где Татаринов работал.)
Сейчас, когда уже давно все позади, я думаю, как с каждым промедленным часом, даже минутой, росла тяжесть вины этих двоих.
На третий день Татаринова действительно нашли. 18-го с утра была снаряжена поисковая группа, и где-то около часу дня нашли его у Валыгинского поля, рядом с садоводческой будкой, где отдыхали, грелись Казин с Бондаревым.
— Ну, Федор Григорьевич, ты тут разлегся, а мы с ног сбились…
Сказал тот, что был впереди, и осекся.
Светило зимнее неяркое солнце. Ослабевший за эти дни ветер ронял с берез снежную пыль. Снег падал на лицо Татаринова и не таял. Рядом с ним, виновато виляя хвостом, видно, давно уже не отходила от него незнакомая собака, застывшая в нелепой преданности.
От Валыгинского поля мы возвращаемся к дому. Казин и Бондарев по-прежнему чутко слышат все звуки и шорохи леса.
— Вот лось шел. Недавно,— показывает Бондарев на следы.— Шел слева во-он к тому ивняку подзаправиться.
— А зайцев-то больше стало. Как сено идет, Иван Иванович?
— Хорошо, зайцы его любят.
Я знаю, о чем они говорят. Охотники косят и вывозят с лесхозовских угодий сено — для косуль, зайцев. Еще они растят картофель, овес для кабанов, собирают рябину для рябчиков, тетеревов, зайцев. Для лосей и зайцев на зиму готовят солонцы: валят осину, в метре-полутора от корня рубят корыто и закладывают туда соль-лизунец. Через недельку-другую осина начинает киснуть, и тут-то подходят на подкормку лоси.
Обо всем этом рассказывал мне вчера вечером Казин. Он гордится своим хозяйством, в области оно на хорошем счету. «План по членству,— говорил Казин,— идет хорошо, 932 охотника у нас, план по вырубке ивняка сделан. Лекции? Пожалуйста. Надо было за год шесть провести, а мы — семь. Тех же солонцов вместо 223 сделали 280».
— Ах, сволочи,— Казин неожиданно останавливается.— Ну надо же, а? Иван Иванович?
Я вижу на осине большенные вырезы ножом. Кто? Хулиганы какие-то.
— Вот сволочи,— повторяет Казин,— судить за это надо.
— Послушайте,— спрашиваю я,— а из вас кто-нибудь был у Татариновых в семье после этого…
— А зачем? — ответили оба в один голос.
— Мы венок ему купили? Купили,— объяснил Бондарев.
— И ленту,— подсказал Казин.— Я вообще жалею вот о чем: зря я его, наверное, к себе в хозяйство взял. И старый он, и лес знал плохо.
Казин впереди осторожно трогает ногой снежную корку. Проверяет что-то.
— Это я смотрю, твердый ли наст,— объясняет он.— Тетерева, они же с деревьев прямо в снег сигают. Не побились бы.
Проходим мимо обелиска с красной звездой.
— Кому это? — спрашиваю.
Молчат. Переглянулись.
Я подошел к обелиску. «Лейтенант Суханов погиб в бою за Родину».
— Он вроде Рузу освобождал,— словно оправдываясь, говорит Казин.
— Но под Рузой погибли тысячи, а памятник-то поставили Суханову?
— А кто его знает…
Сколько же раз они тут проходили!
— Может, раз пятьдесят, может, сто… — отвечает Казин.
Через несколько минут они уже снова читали следы.
— Вот это беляк прошел, на поляну бежал. А во-он снегирь сидит. Снегириха, вернее: с фиолетовым брюшком, самец с красным.
…А все-таки лес, и природа, и все, что есть тут на этой земле,— не их богатство. Им вроде как одолжили всем этим попользоваться, пока они тут служат.
Войну Федор Григорьевич Татаринов прошел всю, до последнего дня. И там, где он, артиллерист, мог умереть, жив остался. В мае они с женой, Зинаидой Николаевной, собирались праздновать 40 лет совместной, вполне благополучной и доброй жизни.
Вспоминаю, что Казин и Бондарев не пошли хоронить Татаринова: людей побоялись. Бондарев только форточку приоткрыл, когда процессия шла мимо, и тут же захлопнул. И гулять с внуком на улицу он выходил долгое время только поздними вечерами, когда на улице никого не было.
Должно быть, когда человек остается один, жизнь более чем страшна — она бессмысленна.
Скрипит снег под ногами. Я иду по лесу с этими людьми. Они — впереди меня, о чем-то тихо и оживленно беседуют.
И у Казина, и у Бондарева настроение сейчас неплохое. Три месяца велось уголовное дело, и вот только вчера его закрыли, камень с плеч. В конце концов, Татаринов скончался, как установила экспертиза, «от сердечно-сосудистой недостаточности».
1972 г.