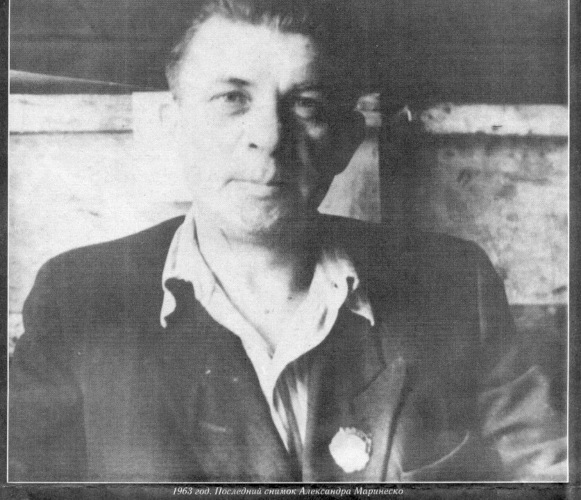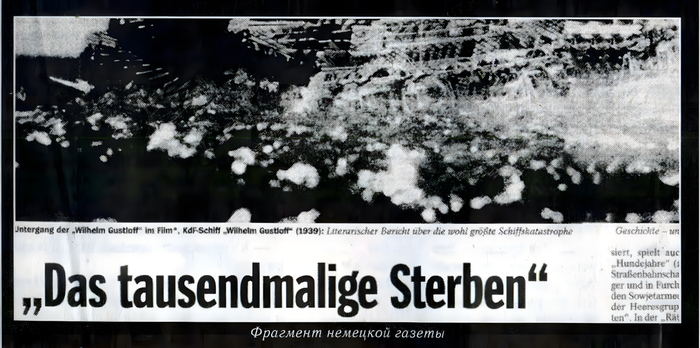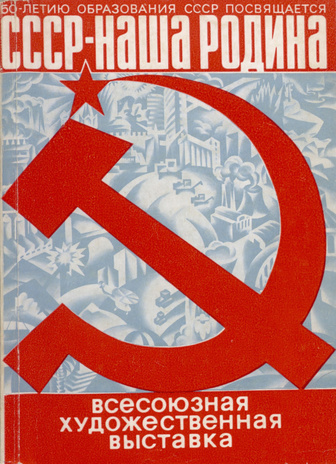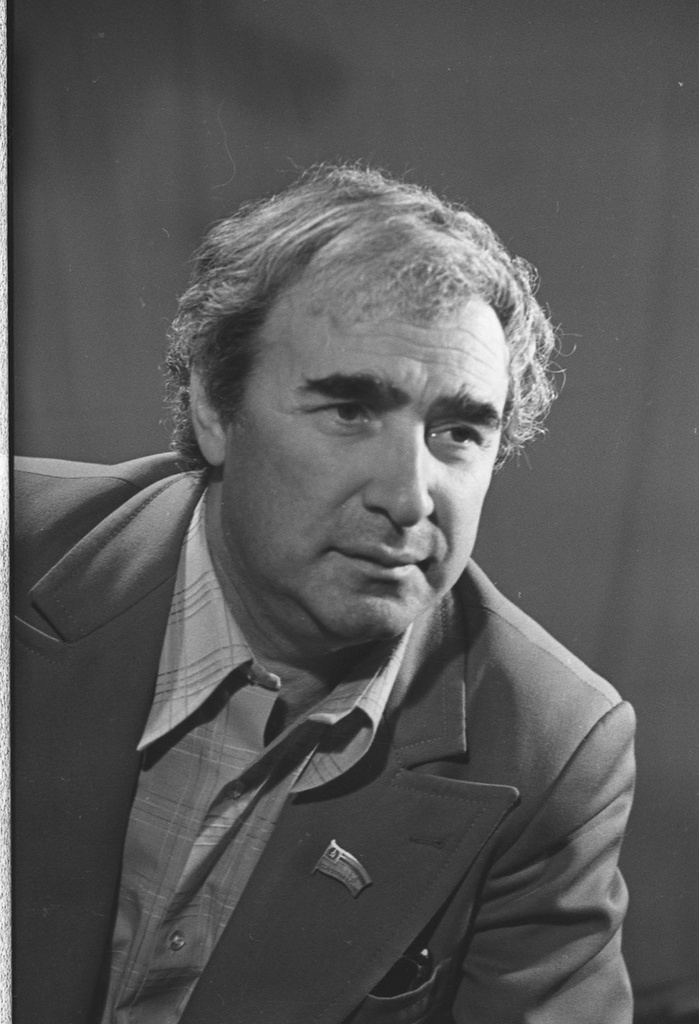Венок терновый (1988) Часть 1/7
Здравствуйте, дорогие друзья.
Продолжаю публикацию архива нашего двоюродного дедушки, журналиста Эдвина Поляновского.
В 1988 году он ездил в Париж к русским эмигрантам и по итогам встречи им был написан очерк «Венок терновый» он же «Парижский дневник».
Из-за некоторых политических причин очерк был разбит на две части, которые были опубликованы в «Известиях» с временным промежутком.
Позже, в книге «Венок раскаяния» очерк был опубликован целиком. В данной серии постов я буду публиковать данный очерк по частям, т.к. он для Пикабу слишком большой.
Это был один из очерков позднего СССР о русской эмиграции. Я его публикую не столько для того чтобы сказать "вот какие все сволочи были, как все было плохо", а для того чтобы посмотреть со стороны, как в СССР, где про эмигрантов особо не говорили, в конце восьмидесятых в одной из главных газет - "Известия" - был опубликован большой материал на эту тему.
Часть 1/7
Городок этот — Старая Русса — я знал еще до асфальта. По утрам гнали коров, хозяйки кричали с улицы: «Молочка, кому молочка?» Стучали в дверь: «Свежей рыбы не надо?» И мед был — из лучших в средней России. Сосуществовали безобидно церковь и Советская власть. Переливы колоколов плыли, достигая окрестных лугов и полей, а зимой на реке церковный ледяной скульптор в ледяной нише вырезал ледяной крест — огромный, крашенный в ярко-красное, он смотрелся во впадине тревожно и маняще.
В один из темных вечеров стрелка старенького «Рекорда» споткнулась и остановилась на чужой земле: «Говорит радиостанция «Освобождение»… Вчера в Париже скончался великий русский писатель Иван Бунин».
Удивила не столько ложь, сколько примитивное бесстыдство. Как будто мы не знали своих великих — Пушкин, Толстой; или знаменитых — Бабаевский, Ажаев. Эта короткая устная строка явилась символом лжи — всех тех, по ту сторону.
Пятнадцать лет назад довелось побывать в Париже туристом. Тассовский корреспондент с женой привезли меня на одно из самых скорбных мест в мире — Русское кладбище.
Мы уже уходили, уже сели в машину.
— Вернусь, — сказал я. — Один побуду.
Иван Алексеевич. В чужой земле, под другими облаками — вечное сиротство. Впервые в жизни хотелось перекреститься.
Как же жили мы и как росли — не в ветки, не в листву, мы росли в сучья. Оказалось, открылось, что есть Есенин, Цветаева, Мандельштам, Ахматова, Пастернак. Есть Хлебников и Гумилев. Выяснилось недавно, что есть Замятин и Пильняк.
Их возвращали постепенно, понемногу, чтобы не изменить русло устоявшейся тихой реки: каждому поколению по нескольку имен. Если учесть, что все они уже издавались когда-то, если добавить к ним публиковавшихся и издававшихся прежде, а потом оказавшихся неугодными государственных и партийных деятелей, полководцев, мыслителей, ученых, то окажется, что ни одно государство в мире не выпускало столько нелегальной литературы, сколько наше.
В последние дни возникают из небытия новые имена: Шмелев, Зайцев, Алданов, Зуров. Русские писатели.
Есть ли дно у этой реки?
Так мы жили и так росли. Как гриновский мальчик Роберт. Его, новорожденного, купил у нищей матери богатый злодей, «мистификатор и палач вместе». Мать утешилась тем, что ее сын вырастет счастливцем. Ребенка содержали в помещении без окон, ему внушили, что жизнь — именно такова. Когда мальчику исполнилось четырнадцать, ему решили показать истинную жизнь и вечное солнце, объявив при этом, что сегодня оно светит в последний раз.
В полдень его вывели, сняли с глаз повязку. Было заключено пари: когда солнце зайдет и наступит тьма, которую мальчик должен считать вечной, он сойдет с ума или умрет.
Солнце неотвратимо уходило за горизонт. Мальчик ждал.
Обман открылся ему изнутри.
— Оно вернется, — сказал он. — Не может быть.
И Грин, и Грин — из вернувшихся.
В разное время возникали вдруг из небытия Игорь Стравинский, Александр Бенуа, Сергей Дягилев, Николай Бердяев…
Молчи, грусть, молчи, другой жизни не существует.
После революции, когда был расколот надвое мир, оказалось разъято и русское наследие — литературное, историческое, философское, художественное, театральное, музыкальное. Правда, видимость единства уверенно охранялась и сохранялась. Все эти долгие десятилетия нам, соотечественникам, внушалось: все в целости и неприкосновенности, и великие, и даже малые ценности — у нас, в стране. Лишь то, что у нас, и есть — ценности, доставшиеся нам вместе с завоеваниями революции, а что оказалось там, по ту сторону, — осколки, отбросы. Точнее — от леса щепки, поскольку те, кто покинул Родину, — отщепенцы. Внушение было на уровне гипноза, который еще и теперь дает о себе знать.
Между тем в эмиграции, вдали от отечества культура жила, дыхание ее не прервалось. За рубежом существовало более тысячи русских периодических изданий. С 1919 по 1952 год вышло 2230 журналов и газет. С 1918 по 1968 год было написано 1080 романов, более тысячи сборников стихов. Зарубежная Россия создает церкви, школы, университеты, музеи, библиотеки. Сохраняет дворянские и прочие звания и титулы. Войсковые союзы хранят боевые знамена. И воинство, и духовенство чтят все юбилеи. Балы, собрания, дискуссии. Существуют литературные объединения, учреждаются премии имени великих соотечественников.
Для многих эмигрантов Россия оставалась и темой, и источником вдохновения.
Большая часть эмиграции осела во Франции. К 30-м годам здесь нашли пристанище 400 тысяч русских.
Рядом с творцами жили и хранители ценностей, не только создаваемых, но и древних, российских. Хранили — для кого? Иконы, картины, дневники, письма, партитуры.
Как ни горько, как ни тяжко было Надежде Яковлевне Мандельштам или Елене Сергеевне Булгаковой, но все же они берегли рукописи самых близких людей, и они были у себя на Родине, а значит, всегда была рядом чья-нибудь отзывчивая душа, были, пусть немногие, нелегальные читатели и сподвижники, и еще была, оставалась — вера: это — нужно, пусть не сейчас, в будущем.
А те — вдали, в Париже, Берлине, Нью-Йорке, для кого хранили? Ни французов, ни немцев, ни прочих это не интересовало, от соотечественников, от нас то есть, — ничего, кроме брани. Даже для семейного архива оставлять духовное наследство не имело смысла, большинство эмигрантов коротали жизнь в одиночестве; если же у кого рождались дети, они росли уже французами, немцами, американцами.
То, что осталось, хранилось у этих людей, то, что они могли подержать в руках, было их последней Россией.
Спустя долгое время мы начали милостиво мириться. Прощали их. Далеко не всех — избранных. Мерой невиновности установили талант. Извлекали для себя, возвращали наиболее именитых — писателей, певцов, композиторов, художников. За единицу измерения взяли Бунина, Шаляпина, Рахманинова, Бенуа.
Мерой невиновности стали польза, выгода, корысть.
…Снова Франция, снова Париж. Теперь я по делам здесь.
Ирина Леонидовна Сологуб живет в центре Монмартра. На Сакре-Кёр красиво бьют часы, и в доме слышно. За окном — мелкий дождь, по черепичным крышам бродят мокрые голуби.
— Мой папа, Леонид Романович, — потомок казаков из Сечи, сын купца второй гильдии. Мама, Анна Николаевна, — из семьи Красильщиковых, у них была большая фабрика в Родниках, несколько тысяч рабочих. Мама знала немецкий, итальянский, испанский, английский, в доме было пять гувернанток. Они поехали в кругосветное путешествие, и там их застала революция, в Краснодар вернулась только мама, потому что ожидала меня. Вернее, они ожидали сына, и его должны были звать Мстислав, а родилась я, и было большое разочарование. Шести недель меня крестили в Новороссийске, потом сели на пароход. Когда мама в 19 лет уезжала из России, она не умела даже причесываться, ее всегда горничная причесывала.
…Они так не подходили друг другу. Когда путешествовали, мама пила чай с разными леди, а папенька выходил на палубу в толстовке и босиком. Мама была в ужасе. Они развелись потом, мама вышла за Бутурлина, стала графиней и умерла в 87 лет. Отец? Что же, он окончил училище живописи, ваяния и зодчества в Москве, курс по архитектуре в классе профессора Леонтия Бенуа в Академии художеств в Ленинграде, за выдающуюся конкурсную работу — проект здания Государственной думы — получил командировку за границу. У него было звание архитектор-художник. Проектировал и памятники, и храмы. К столетию Бородинской битвы по проекту отца был возведен монумент в память артиллеристов, сражавшихся на Шевардинском редуте. От гонорара отец отказался, и офицеры в благодарность подарили ему медальон из драгоценных металлов. На войну ушел добровольцем, получил Георгия.
Прервем ненадолго рассказ дочери. Вот что пишет о Сологубе профессор А. Ф. Крашенинников: «В первые же дни Сологуб пожертвовал все свое имущество на нужды войны… Проходит боевой путь по многим фронтам. В его руках постоянно карандаш и альбом… Так родились многие сотни рисунков. Часть их опубликована в ряде номеров популярного еженедельника «Нива» (около 90). Около трехсот показаны на персональной выставке в Академии художеств. Выставка в Академии получила самый восторженный отзыв известнейшего художественного критика А. Н. Бенуа».
Ирина Леонидовна показывает мне копии рисунков из старой «Нивы» — портреты солдат и офицеров, беженцев, раненых и убитых, обозных и боевых коней, разоренные, в огне деревни, окопы, палатки в поле, стоянки в лесу.
— Папа за границей работал очень много. Мы жили порознь. Я — в Париже, он — в Голландии. Он писал мне каждый день.
«Ему неоднократно предлагали принять гражданство Голландии, но каждый раз он отказывался, сохраняя в глубине души верность своей родине» (А. Ф. Крашенинников).
— Отец жил так, чтобы никого не беспокоить. И умер так же. Соседи увидели скопившееся за дверью молоко от молочника. Когда вошли, он был мертв уже несколько дней. Вот на фотографии его мастерская в Голландии, это дерево у входа — самое большое в квартале. Ему все говорили: «Мсье Сологуб, дерево надо срубить, оно очень высокое, будет молния и все сгорит». А он отвечал: «Это тополь — хранитель моего очага». Он умер, и через три дня тополь упал. На столе у него я нашла черновик завещания. Само завещание было у адвоката. Все переходило мне. Просил, чтобы погребли по-христиански, он страшно боялся, чтобы я его не сожгла. Коллекцию военных рисунков — 113 работ — просил передать России.
…Вначале было отобрано 10 работ. 12 октября 1956 года директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина А. Замошкин направляет Ирине Леонидовне благодарственное письмо. «Этюды переданы в гравюрный отдел музея, обладающий одной из лучших коллекций русской графики. Музею было бы интересно получить остальные этюды, завещанные Вашим отцом советским организациям, а также биографические сведения о нем и несколько фотографий других его работ».
В порыве великодушия И. Сологуб кроме военной коллекции отправляет и другие. Всего — 347 работ. Ей прислали благодарственные письма первый секретарь посольства СССР в Нидерландах Б. Журавлев, зам. начальника Главного управления изобразительных искусств Министерства культуры СССР А. Парамонов.
Через короткое время и она написала Парамонову, поинтересовалась судьбой коллекций.
Ей никто не ответил.
Итог. Более чем за 30 лет рисунки Сологуба так ни разу (!) и не были выставлены. Все они, кроме первых десяти, были отправлены в архив в городе Загорске и там, в условиях, видимо, далеко не идеальных, пришли в негодность.
Может быть, специалистам эти произведения не понравились? Тогда еще раз поблагодарили бы, извинились и вернули. Кажется, само собой разумеется: не надо — верни.
Наивная дарительница решила отдать в Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник медальон отца, дорогой подарок офицеров за памятник на Шевардинском редуте. Оговорила с музеем — медальон обязательно должен быть в экспозиции, и даже место ему музей выбрал — в 5-м зале, на колонне под колпаком.
И что же? Выставили… фотографию медальона, а оригинал спрятали подальше, «в целях безопасности».
Но самое удивительное — земля на Капри…
Сологуб годами — участок к участку — подкупала на Капри землю. Теперь этой земли — 10 га. Она решила завещать ее нашей стране. Процедура сложная — безусловно, чтобы не вызвать раздражение каприйцев, она задумала завещать не напрямую, а через какого-нибудь посредника. Готова была организовать здесь какой-нибудь, скажем, международный экологический и метеорологический центр (но хозяева земли — мы). Или построить комплекс для советских и американских врачей, выступающих за мир и разоружение.
В МИД СССР, в секторе Франции, я ознакомился с перепиской по этому поводу. Посольство СССР во Франции запрашивает МИД. МИД запрашивает посольство СССР в Риме. Получив ответ не по существу, запрашивает вторично. Подключается Министерство культуры СССР. И т.д. и т.п. Письма начинаются вполне обнадеживающе: «К нам обратилась дружественно настроенная к Советскому Союзу дочь известного русского архитектора и художника… Считали бы целесообразным обдумать предложение Сологуб…» А далее: «Процедура передачи земельных участков является весьма сложной…» «Вопрос остается открытым и требует проработки…» и т. д. и т. п. Переписка бесконечна и безрезультатна.
В секторе МИД, занимающемся Италией, мне говорили, что итальянские законодатели не позволят нам получить эту землю — юридически, исходя из их закона, шансов почти нет.
— Скажите, — спросил я, — если бы на нашем месте оказались американцы или французы. Они бы эту землю получили?
— Безусловно, — дружно ответили мне (собеседников было несколько). — Они бы это дело не упустили.
— А если бы нашим посредником оказался вдруг такой человек, как Хаммер?
— Мы эту землю получили бы.
Значит, законодательство все-таки позволяет?
— Обращались ли вы к независимым крупным международным юристам, скажем в «Инюрколлегию»?
— Нет.
Да, собственно говоря, переписка-то вся крутится между своими, на международную арену никто не вышел, мы ни от кого не получили отказ, ни одного «нет».
Ирина Леонидовна Сологуб свои выводы сделала:
— В России всегда все первое: спортсмены — первые, армия — первая и чиновники — первые. Последний вариант мне предложили: пусть там будет международный дом художников. Пусть, я согласна — русские, американцы, итальянцы. Они могут и на земле по 2—3 часа в день поработать, чтоб ее, землю, поддержать, за оливками смотреть, за виноградниками, фруктовыми деревьями… Но принадлежать это должно все-таки России. Теперь и это все затормозилось… А каприйцы хотят меня выжить, тем более земля пустует. Если они построят там виллы, о-о, они заработают там миллиарды. Миллиарды!
Надо сказать и о том, что хочет Сологуб взамен. 1. Перевезти на Родину прах отца. 2. Приехать в СССР на два месяца для работы над диссертацией о творчестве отца. 3. В Краснодаре, в доме, где они жили, сделать что-то вроде культурного центра. Один этаж — вещи, картины отца. Остальные два (за исключением небольшой комнаты самой Сологуб) — библиотеки, зал собраний, комнаты для выставок местных художников.
МИД запросил Министерство культуры СССР, и начальник Управления внешних сношений министерства В. Гренков ответил, что заинтересованности в приглашении Сологуб на два месяца министерство не имеет.
Конечно, зачем Министерству культуры культурный центр в Краснодаре, который организует какая-то эмигрантка? Подальше от греха. За то, что ты чего-то не сделаешь, отвечать не надо, а вот если что-то сделаешь, да вдруг не то,— тут ответ держать придется. Не Родине служим, не Отечеству — себе.
Но как же ставить точку в той самой переписке, хотя бы для отчета? В секторе Франции мне сказали: Сологуб со своей землей на Капри лицемерит. И объяснили: мы ей предложили землю продать, а нам — деньгами… а она отказалась.
Я не поверил. Возможно ли? От имени могучей и гордой страны — одинокой женщине такое унизительное, беспардонное предложение.
Я не поверил бы. Если бы в дипломатической переписке не увидел этих строк: в связи с тем, что процедура передачи земельных участков в дар является весьма сложной, пусть И. Сологуб их продает, а деньги передаст нам. В связи с ее отказом возникает вопрос об искренности ее намерения.
Вас приглашают на званый ужин, а вы: я не приду, я лучше деньгами.
Ирине Леонидовне все же удалось минувшим летом погостить у нас в стране десять дней.
— Меня все время обманывали. В Краснодар вначале не пускали, говорили, что там гостиниц нет, жить негде. А когда я увидела в Москве, в каком виде рисунки отца… мне сказали, что теперь их будут хранить в Москве. А я-то вижу загорские номера и письмо с требованием вернуть все обратно в Загорск.
Сейчас Ирина Леонидовна для реставрации рисунков отца покупает за свой счет особый картон в Париже и ищет оказию переправить на Родину. При мне она собиралась на вокзал, чтоб отправить этот картон со случайной знакомой в Москву.
— Зачем мне такое хранение? У меня дома и свой чулан есть.
Неправда, что рука дающего не оскудеет. Все зависит от того, кто берет.
Я почти убежден, даже если сладилось бы все с землей на Капри, нашли бы причину отказать в Краснодаре. Боимся запачкаться в чем-то не нашем. Есть примеры и не столь дальние — под рукой, в собственном доме.
Лет пятнадцать назад старая француженка русского происхождения побывала в доме отдыха «Известий» под Москвой, место ей понравилось, она загорелась идеей построить здесь дом одинокой матери и ребенка и небольшой коттедж для себя. Редакция и издательство идею с удовольствием поддержали. На стадии очередных переговоров она добавила сущий пустяк: пусть будет значиться на дощечке: дом построен на средства такой-то — ее имя. Возникла легкая заминка, решили от дома отказаться. «У нас в стране одиноких женщин нет»,— сказали иностранной даме. «Одинокие женщины есть в любой стране»,— ответила она. «У нас они живут в коллективе»,— парировали мы. «Я — старая, скоро умру, после меня снимете надпись, если так стесняетесь».
Руководство издательства долго согласовывало и увязывало вопрос наверху. Отказываться жаль, решили — строить. Старая француженка приехала в очередной раз. На новых переговорах, напоминавших встречу двух великих держав, иностранная гостья расписалась и поставила свою личную печать. А мы? Чтобы путь к отступлению на всякий случай не отрезать — бухнули штемпель, который ставят десятками тысяч на все конверты. Она поняла: не то. Вызвали срочно зам. председателя профкома издательства, та — не в курсе дела, но по дороге, в коридоре, успели ее предупредить: ставь профкомовскую печать и распишись, с профсоюзов — какой спрос.
Дальше решили схитрить, что-то вроде как с землей на Капри. Валюту французской дамы потратить на диктофоны, внутриредакционную связь. А строить — на рубли. Но дама оказалась умнее, чем думали: она вложила капитал в швейцарский банк, и востребовать мог только Госстрой и только для строительства дома, т. е. валюта шла, как мы говорим, «целевым назначением».
После неудачных попыток завладеть деньгами представители издательства обратились к самой мадам, она, естественно, валюту на рубли менять не стала, в очередной раз (пятый или шестой) приехала в Москву и договор расторгла.
— Жаль,— сказала она,— вы так и не научились хозяйничать. Я разочарована.
Уже и директор издательства умер, уже и одинокие женщины в коллективе давно состарились. А все — помнится.
Сколько же мы теряем из-за нашей провинциальности. Разговор ведется словно на разных уровнях.
К концу жизни, перед бесконечностью, одиночество предстает во всей истинности и необратимости. По бессилию — старческое одиночество, как детское сиротство. Многие об эту пору хотят оставить хоть какую-то память о себе — именно на Родине.
Вот, предлагают нам, примите в дар библиотеку или, скажем, коллекцию редких дорогих картин. Бесплатно. Только укажите: из фамильной коллекции таких-то. Единственная, малая просьба.
Мы, однако, проявляя бдительность, избегали «порочащих связей». Но и отказаться от дармового не хватало сил. В итоге не «связи» нас порочили и унижали — совсем другое. Возьмем вашу бесценную коллекцию, говорили мы, но безымянною.
Многое сейчас меняется, но все-таки до разговора откровенного и делового нам еще далековато, мы еще только на пути к сотрудничеству.
Что там эмиграция. Вот вам дружественный северный сосед — Финляндия. На исходе прошлой зимы в библиотеке Академии наук в Ленинграде произошел пожар, погибло много ценнейших книг. Финны предложили: в наших архивах есть экземпляры сгоревших уникальных книг — возьмите.
Мы отказались. Чтобы не раскрывать масштабы потерь.
Не столько от чужестранцев скрывали, сколько от собственного народа.
Трудный мы партнер для Запада, непредсказуемый!
Постоянный заступник нашей культуры Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал:
— Зарубежные дарители предпочитают с нами частные контакты, но не с учреждениями. Учреждения просто не готовы.
Академик имел в виду не те сложности, о которых только что шла речь, и даже не вечную нашу привычку тормозить любое серьезное дело, да еще связанное с заграницей: сколько надо пройти инстанций — уведомить, увязать, согласовать, прежде чем «получить добро». Тогда что же?
— Берем, находим место и — закрываем от всех на замок. Вот же, история про Милицу Грин. По-русски она говорит, как мы с вами,— жила в Риге, потом в Париже, дружила с Буниными, они завещали ей архив. Она после смерти мужа переехала в Шотландию к внукам. Как быть с архивом? Внуки по-русски могут сказать только «здрасьте», для них Бунин ничто. Хотела нам все отдать, но узнала из наших газет,— она следит за нашей прессой,— что в Ленинскую библиотеку к архиву Булгакова даже Чудакову не пускают, виднейшего специалиста по нему. Булгаковское дело давно тянется… А у Бунина — очень много антисоветских высказываний, переписка там его… Настроения Бунина в ту пору известны. К этому архиву еще 30 лет пускать не будут. А как раз в США был создан архив русских эмигрантов — в Лидсе. И она отдала туда. Что я мог ей сказать — что она поступила неправильно? Что она должна была в Библиотеку Ленина сдать? Она мне говорит: «Вам же, советским специалистам, доступнее в Лидс приехать, чем в московский архив попасть». У нас в газетах стали обвинять ее, что она продала архив. Да не продала, бесплатно отдала. Она так была обижена на советскую печать — до слез, отказалась вообще иметь дело с советскими людьми. Со мной разговаривала только потому, что я оказался знакомым ее знакомых.