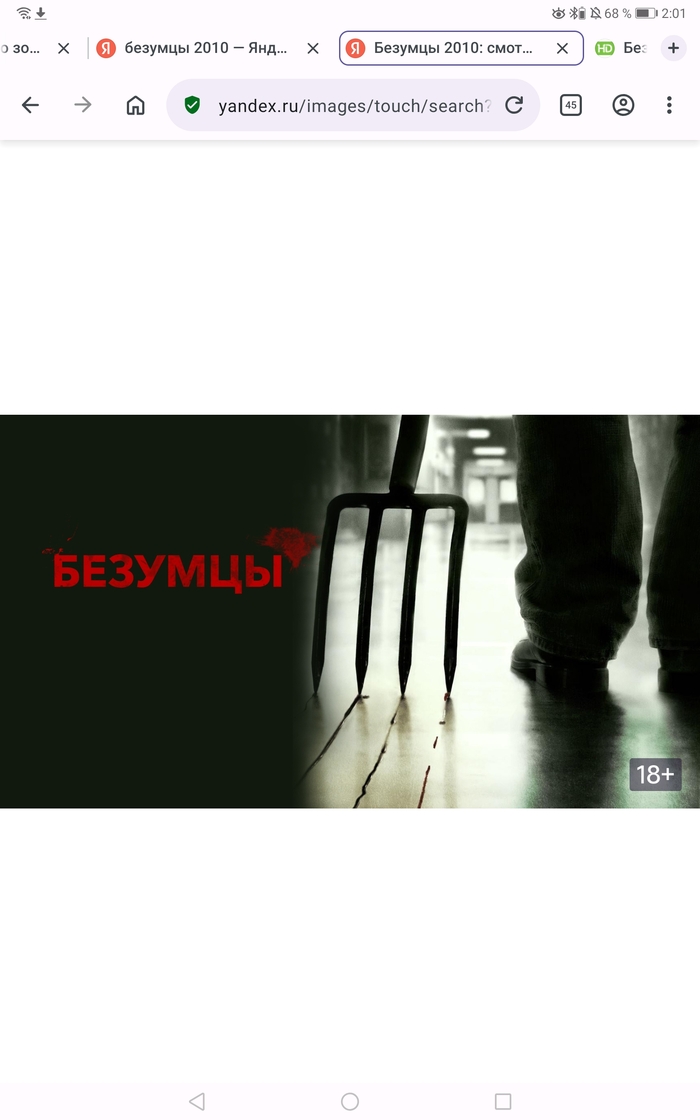Проба пера в новом для меня жанре, возможно будет и продолжение...
Сплюнул — слюна тянулась, как горячий сургуч. Штабс-капитан… Не так ты думал подохнуть, да?
Мысль — и к чёрту. Туда же, куда и очередь, срезавшая воздух в вершке над каской.
Рядом всхлипнул Луи. Наш балагур, ходячий сборник армейских баек. Он и на том свете будет травить анекдоты. Очередь перебила его на полуслове.
Вжался в камень — он крошился на зубах, забивался в глаза. Пальцы сами передёрнули затвор «Лебеля». Хорошая винтовка, надёжная, как лом. Только патроны — вот они, в подсумке, ровно двенадцать штук осталось. Если считать по-честному, с тем, что в стволе. Учили нас когда-то: считай патроны всегда. Не будешь считать — считать будут тебя.
Прильнул к цевью, поймал в прорезь прицела фигуру пулемётчика — тот поливал откуда-то слева, из-за скального выступа, ствол уже раскалился, воздух над ним плыл маревом. Выдохнул. Выстрел — пулемёт захлебнулся, голова пулемётчика ткнулась в ствольную коробку. Один есть. Минус один патрон.
И сразу капрал погнал нас в атаку. Вскочил, матерясь сквозь песок. Бежать не потому, что я герой. Смотреть в спины уходящим товарищам страшнее, чем пули.
Винтовка хлопала по бедру, лёгкие рвало от жара, в ушах — только собственный хрип и далёкий треск. Кто-то слева споткнулся и остался лежать — я не обернулся. Нельзя. Посмотришь назад — упадёшь.
Враг вынырнул из пыли, когда я уже падал в его же окоп. Серая фигура в джеллабе, лицо без возраста — кабил, молодой совсем, глаза дикие, ствол смотрит в живот. Я не думал — тело сработало раньше. Удар прикладом снизу в челюсть. Хруст — короткий, сухой, будто сломали доску. Челюсть подалась, лицо исчезло в кровавом месиве, тело осело, даже не вскрикнув. Ноги уже несут дальше, а в голове пусто — только счёт: один.
Потом будет два и три, но их я уже не запомню.
Лицо парня всплыло перед глазами на секунду — юное, почти мальчишеское. Глаза уже остекленели, но в них застыло что-то, отчего внутри кольнуло. За что он воевал? За свою землю, за свой дом. Как и я когда-то… Только мой дом теперь в Марселе, а я здесь, в чужой пустыне, убиваю таких же, как сам.
Мысль мелькнула и погасла — некогда. Бежать дальше.
Мир схлопнулся. Тяжёлый, ватный удар — и тишина, в которой почему-то визжали мухи.
Сознание возвращалось урывками.
Имя вспыхнуло в темноте и погасло.
Потом — чьи-то руки, тряска носилок, чёрное небо над головой — или это просто темнота в глазах? Снова боль. Потом — тишина. И запах. Йод, пот, гниющая плоть и что-то приторно-сладкое, от чего желудок скрутило узлом.
Брезентовый полог, сквозь щели бьёт выжженное солнце. Пыль танцует в лучах. Пахнет — тем самым, больничным, смертным.
Голоса. Французская речь, отрывистая, командная. Гортанные крики где-то далеко — то ли арабские, то ли берберские. Стрельба — одиночные, потом очередь, потом снова тишина.
Анвал. Название стучало в висках вместе с болью. Утром была атака… А потом — темнота.
Потом был ад. Испанцы, которых мы должны были подпереть, побежали первыми. Их разбил Абд эль-Крим. Нас, легионеров, бросили затыкать дыру, удерживать фланг, пока французское командование в Мелилье не решит, что делать с этим кошмаром. А потом осколок. Удар в висок — и темнота.
Я попытался поднять руку, чтобы пощупать голову, и едва не застонал. Каждое движение отдавало в висок ржавым гвоздём. Бинты стягивали грудь, плечо, голову. Гимнастёрки нет — только бинты и рваная нижняя рубаха, липкая от пота и запёкшейся крови.
— Очухался, поручик? — Голос справа, картавый, с одесской растяжкой.
Я повернул голову — шея отозвалась болью, перед глазами поплыло. На соседней койке, поверх окровавленных бинтов, лежал человек и курил цигарку, пуская дым в потолок. Свои. Русский. Это читалось во всём — в складке губ, в усталых глазах, в том, с каким наслаждением он затягивался махоркой.
— Штабс-капитан, — поправил я. Голос сел, превратился в хрип. — Ларин. Дмитрий Ларин.
— Бывает, Дмитрий. — Он усмехнулся, сплюнул табачную крошку в пыль. — Соколов я. Павел Соколов. Бывший подпоручик, царской армии. Теперь вот дерьмо чищу в легионе, как и ты.
— Откуда знаешь, что я легионер?
— А кто ж ещё? — Соколов кивнул на мои руки — на сбитые костяшки, на въевшуюся в складки ладоней пороховую гарь. — Наших тут много. После Крыма, после Галлиполи… Французы рабочих рук просят, а у нас этих рук — хоть отбавляй. Только стрелять и умеем.
Я закрыл глаза. Крым. Ноябрь прошлого года. Врангель, погрузка на пароходы, свинцовая вода, и красные вот вот войдут в город… Потом Галлиполи, голод, вербовщики в иностранной форме. «Легион — пять лет, обещают землю после службы». Землю. Кому она нужна, эта земля? Под братскую могилу?
Катя, Коля, Аня. Я их почти год не видел. Катя сильная, она выдюжит. Она всегда была сильнее меня… Мысль оборвал — думать об этом сейчас всё равно что соль на рану сыпать.
— Лазарет. Полевой. Где-то под Мелильей, если эти горы вообще можно как-то назвать. — Соколов закашлялся, сплюнул кровью в тряпку. — Испанцы вчера драпали так, что пятки сверкали. Кабилы их резали, как баранов. Говорят, сам Абд эль-Крим ихнюю армию в хвост и в гриву разбил.
— А мы — расходный материал. Легион всегда там, где жарче всего. — Он усмехнулся, горько, одними уголками губ. — Ты как, стоять можешь?
Я прислушался к себе. Голова гудела, как надтреснутый колокол, но ноги, кажется, целы. Приподнялся на локте — перед глазами поплыло, тошнота подкатила к горлу, но я сдержал.
— Вот и славно. Потому что, сам видишь, места мало. Тяжёлых вывозят в Мелилью, а лёгкие… — Он обвёл рукой палатку. — Лёгкие тут.
Палатка была забита ранеными. Французы, испанцы, несколько легионеров — сразу видно по выцветшим мундирам. Кто-то стонал в голос, кто-то лежал тихо, с открытыми глазами, глядя в брезентовый потолок. Санитары сновали между койками, но их было мало — человека три на всю эту камеру. Воздух спёртый, тяжёлый, пропитанный потом, йодом и той самой сладковатой вонью, от которой мутило.
В углу, у входа, лежал человек, накрытый простынёй с головой. Мёртвый. Рядом с ним сидел санитар и смотрел куда-то в одну точку, невидяще. Только губы шевелились — может, молился, может, с ума сходил.
— Хватает. — Соколов помолчал, затянулся в последний раз, погасил бычок прямо о край койки. — Ты вот что, капитан… Ты про болезнь слышал?
— Про «новую испанку». Говорят, в Европе уже стихло, а здесь, в Африке, она ещё свирепствует. Люди дохнут за сутки, а потом… — Он понизил голос до шёпота, хотя рядом никого не было — только стонущие да мёртвые. — Потом санитары шепчутся, что мёртвые встают.
— Встают? — переспросил я. — Куда встают?
— Из койки. — Соколов покосился на угол палатки, где лежал накрытый простынёй. — Говорят, вчера в другой палатке такое было. Санитар ночью зашёл — а они сидят. Мертвецы, которые ещё днём холодные лежали. Сидят и смотрят.
— Все говорят. — Он сплюнул в пыль. — Знакомец из третьей палаты бредил, кричал, что его брат из ущелья вышел и за ним пришёл. Испанский лейтенант, контуженый, всё твердил про колодец, куда трупов накидали, а они оттуда вылезают. Санитары меж собой переглядываются, крестятся. Один, Жан, видел своими глазами — говорит, труп, который в углу лежал, голову повернул и на него посмотрел.
— Солдатские байки, — сказал я, но внутри шевельнулось нехорошее.
— Байки не байки, а вчера вечером троих закопали за лагерем. — Соколов понизил голос до шипения. — Двое кабилов, один наш, из первого полка. Так сегодня утром могилы пустые были. Кто-то разрыл, говорят. Или не кто-то.
— Ага. — Он усмехнулся криво. — Шакалы, которые потом в лагерь пришли и своих же бывших товарищей узнавали. Те, кто караул ночью нёс, клянутся, что видели, как тот, из первого полка, к палаткам шёл. И не один.
Я хотел ответить, но не успел. Соколов вдруг замер, глядя куда-то поверх моего плеча.
Ветер? В палатке? Крысы? Бред контуженного?
Пальцы — бледные, распухшие, с чёрными нитями вздутых вен — выползли из-под ткани и вцепились в землю. Медленно, по-крестьянски основательно, будто сеяли что-то.
Я смотрел на них и не понимал. Не мог понять. Потому что если это правда, то весь мир сошел с ума.
Потом показалась рука, локоть, плечо. Сустав повернулся под неестественным углом, с хрустом, от которого заложило уши.
— Мать честная, — выдохнул Соколов. Цигарка выпала из пальцев, покатилась по земле.
Рука мёртвого уже вся вылезла из-под простыни, за ней показалась голова. Лицо — синюшнее, с чёрными подтёками, глаза открыты, но белые, мутные, без зрачков — как у снулой рыбы. Рот открылся. Шире, чем может живой человек. Шире, чем это вообще возможно. Челюсть соскочила с суставов, и оттуда вырвался звук. Тихий, булькающий хрип, от которого стыла кровь.
Холод хлынул в живот, ноги стали ватными. Я попятился, наткнулся на койку, чуть не упал.
— Пресвятая богородица, — сказал кто-то из санитаров и перекрестился. Опоздал.
Мертвец сел. Не как живой — рывком, неестественно, будто невидимые нити дёрнули его вверх из-под лопаток. Голова мотнулась, чуть не оторвавшись, и он повернулся к нам.
К ближайшей койке. Где лежал сенегалец с перевязанной грудью. Тот заорал — дико, по-звериному, заметался, пытаясь отползти, но ноги не слушались, только пятки скребли по земле.
И тогда сработал рефлекс, вбитый за годы войны: бей, пока не убьют. Схватил костыль, стоявший у моей койки. Вскочил — голова взорвалась болью, перед глазами поплыло, но я уже шагнул. Ещё шаг. Кровь из уха потекла по щеке тёплым.
Мертвец уже склонился над сенегальцем. Руки с посиневшими пальцами тянулись к горлу. Не к лицу, не к груди — именно к горлу, будто знали, куда надо.
Я ударил. Костылём, со всей дури, по голове.
Удар отозвался в плече, в виске — больно, до искр. Мертвец качнулся, но не упал. Даже не пошатнулся по-настоящему — только повернулся ко мне. Из разбитого виска текла густая жижа — не кровь, а что-то другое, похожее на отработанное масло. Но он смотрел. Смотрел мутными глазами без зрачков и тянул руки.
— В голову бей! — заорал Соколов откуда-то сзади. — В голову, мать твою!
Я размахнулся снова. Ударил — и ещё, и ещё. Костыль крошил дряблую плоть, проламывал череп, с каждым ударом — всё глубже. Пока тело не рухнуло на пол и не замерло. Окончательно.
В палатке висела тишина. Только чьи-то всхлипы и моё тяжёлое дыхание. Я стоял, опираясь на костыль, и смотрел на то, что сделал. На труп, который только что был трупом, а теперь лежит с размозжённой головой, и из черепа вытекает чёрное.
— Испанка, — прошептал кто-то. — Новая испанка. Она их поднимает.
И тут из дальнего угла, где лежали самые тяжёлые — безногие, безрукие, умирающие — донеслось шевеление. Хрипы. Возня. Кто-то закричал — дико, нечеловечески, и крик оборвался, захлебнулся бульканьем.
Я поднял голову и увидел, как по всей палатке, среди коек, среди живых и мёртвых, поднимаются те, кто должен был лежать. Медленно, неловко, дёргано — но поднимаются.
Санитар, минуту назад сидевший как каменный, вдруг взвизгнул, сорвал с колышка полог и вылетел наружу, даже не оглянувшись.
— На выход! — заорал я. Голос сорвался в хрип, но услышали. — Все, кто может идти — на выход! Поднимайте тех, кто жив! Бегом!
Схватил Соколова под руку, дёрнул вверх. Тот застонал — у него было прострелено лёгкое, я вспомнил это только сейчас, — но встал. Мы попятились к выходу, к свету, к солнцу, а навстречу уже тянулись руки с посиневшими пальцами, и воздух наполнялся булькающим хрипом, от которого стыла кровь.
Сзади кто-то закричал — долго, не замолкая. Потом крик оборвался.
Мы вывалились наружу и замерли.
Следом за нами, раздирая полог, из палатки повалили люди. Те, кто мог идти — хромая, ползком, на четвереньках. Раненые с размотанными бинтами, санитар с окровавленными руками, двое легионеров, поддерживающих друг друга. Человек десять, не больше. Остальные остались там, где булькали хрипы и трещали раздираемые тела.
— Рассредоточиться! — заорал я, но меня никто не слушал.
Они разбегались кто куда, как тараканы на свету. Двое рванули к штабным палаткам — напоролись на толпу мертвецов, закричали и упали. Санитар побежал к дороге, но споткнулся, и его настигли сразу трое. Легионеры попытались отстреливаться, но патронов у них не было — их просто разорвали.
Из всей толпы, что выбралась следом, через минуту в живых остались только мы двое. Остальные уже корчились в пыли, и над ними чавкали и хрипели синие твари.
— Твою мать… — выдохнул Соколов рядом. Лицо у него было белое, глаза дикие, но винтовку держал крепко.
Солнце било в глаза, слепило, выжигало сетчатку. После полумрака палатки мир казался выцветшим добела. Я зажмурился на секунду, проморгался — и увидел
Справа полыхал грузовик, который утром подвозил боеприпасы. В масле, текущем из-под мотора, корчилось что-то, ещё минуту назад бывшее человеком. Оно не кричало. Просто дёргалось в такт огню, и пламя пожирало его молча.
Слева, у штабных палаток, бежали люди. Кричали. Стреляли. Очереди уходили в пустоту, в небо, в своих же. Кто-то упал — и на него тут же навалились двое, но не спасать, не поднимать, а рвать зубами. С хрустом, с чавканьем, с той самой булькающей одышкой.
Я дёрнул Соколова за ворот, затаскивая за груду ящиков с пустыми гильзами.
Он мотнул головой налево, за палатку лазарета:
— Там. За лазаретом. Две палатки.
Мы побежали. Босиком по битому камню, по окуркам, по чьим-то пальцам, ещё дёргающимся. В стороне, у водовозки, марокканец в красной феске отбивался сразу от троих, орал по-арабски, призывал Аллаха, но они уже взяли его в кольцо.
У входа в вещевую палатку лежал интендант. Мёртвый. Настоящий — не шевелился, лежал лицом вниз, из-под головы натекла лужа крови, уже чёрная, запёкшаяся. Рядом валялся «Лебель» — даже не подобрал никто.
Соколов подхватил винтовку на бегу, передёрнул затвор, сунул руку в карман убитого.
— Полная сумка. — Кинул мне обойму, тяжёлую, маслянистую. — Держи.
— Внутрь сначала. Босиком далеко не уйдёшь.
Внутри был ад разгрома. Ящики вскрыты, вещи разбросаны — кто-то уже грабил склад перед нами. Или живые, или мёртвые — теперь уже не поймёшь. На полу валялись мундиры, штаны, ботинки, портянки, каски. Прямо посередине прохода лежал труп араба в гражданском — видно, мародёр из местных, но что его убило, непонятно. Ни ран, ни крови. Просто лежал с открытыми глазами. Рядом валялся тесак, длинный, мясницкий, ещё в крови.
— Бери что видишь, — бросил я, хватая первые попавшиеся штаны. Французские, широкие, с высоким поясом, пахнут потом и нафталином. Натянул прямо поверх бинтов, на голое тело. Ботинки — чужие, великоваты, но хоть не босиком. Шнурки порваны — завязал кое-как.
Пока Соколов возился с мундиром, я сунул руку в груду тряпья и нащупал несколько банок — консервы, кажется. Сунул две в карман, туда же флягу, на четверть полную, и скатку бинтов. В углу валялся вещмешок — пустой, я накинул его через плечо, на ходу запихивая туда всё, что попадалось под руку: пару коробок галет, мыло, спички.
Соколов возился с мундиром — пытался надеть через раненую шею, шипел сквозь зубы, матюгался вполголоса.
Я дёрнул ворот, надел на него мундир, затянул ремень. Сунул ему в руки тесак от трупа.
— Держи. Пригодится. Патроны береги.
Сам подобрал ещё один «Лебель» — валялся под ящиками, чистый, будто его только что бросили. Патроны — полная сумка, с ремнём, перекинул через плечо.
Соколов кивнул. Лицо белое, губы трясутся, но глаза злые. Цепкие.
— Готов, капитан. Командуй.
Из палатки донёсся звук. Близко. Хрип, бульканье и шаги — тяжёлые, шаркающие, по песку.
Я припал к щели между пологами. Снаружи, метрах в десяти, стояла группа. Шестеро. В разном — французы, арабы, один в форме легионера. Стояли и смотрели на нашу палатку. Смотрели мёртвыми глазами — белыми, без зрачков, навыкате. Руки висели плетьми, но головы были повёрнуты к нам.
— Нас ждут, — сказал я тихо. — Шестеро.
Соколов выглянул из-за моего плеча. Сглотнул. Кадык дёрнулся.
Я передёрнул затвор. Патрон вошёл в ствол с мягким металлическим щелчком — музыка.
— Слушай команду. Стреляй в голову. Только в голову. В грудь — бесполезно, сам видел.
— И не отставай. Если упадёшь — я не вернусь.
Он усмехнулся криво, одними губами:
Я глубоко вздохнул, считая про себя. Трое слева, трое справа. Если повезёт — застрелим двоих сразу, пока не опомнились, остальных…
Сзади, в глубине палатки, что-то зашевелилось.
Мы обернулись одновременно.
Труп мародёра с тесаком — тот, что лежал посередине прохода, — открыл глаза.
— Твою мать… — выдохнул Соколов.
Мертвец уже тянул к нам руки. Медленно, но неумолимо. Изо рта вырвался хрип — тихий, но от него волосы зашевелились на затылке.
Я вскинул винтовку. Грохот выстрела в замкнутом пространстве ударил по ушам так, что из носа потекла кровь. Пуля вошла точно в лоб. Голова мёртвого дёрнулась, брызги густой жижи окатили ящики, тело рухнуло и замерло.
Но на звук снаружи ответили хрипами. И шаги — теперь быстрее, торопливее, теперь они бежали к нам.
— Выходим! — заорал я. — Режь стену!
Соколов уже полосовал брезент тесаком — длинные, рваные полосы, за ними слепящее солнце.
Я вскинул винтовку к дыре входа.
Первая морда — обвислая, с вырванным горлом, откуда свисали какие-то лохмотья, — сунулась в палатку. Выстрел в лоб. Голова разлетелась, тело упало, но сзади уже лезли другие. Вторая — под руку, попыталась схватить за ствол. Выстрел. Третья — лезла поверх трупов, не разбирая дороги. Выстрел.
— Готово! — заорал Соколов. Он уже располосовал стену, и солнечный свет бил в прореху.
Я бросил последний патрон в четвёртую тень — попал, кажется, — и вывалился наружу, в слепящее солнце, в горячий воздух, в запах гари и смерти.
Я огляделся. Дорога на восток — туда, где за маревом угадывались очертания портового города, где были корабли, где можно затеряться. Или умереть. Но сначала — попытаться.
— Туда! — махнул рукой. — В Мелилью!
— Там порт! — перебил я. — Или ты хочешь остаться с этими?
Соколов оглянулся. Из распоротого брюха палатки уже лезли синие руки, хрипели, тянулись к нам. Много. Целая стая.
— Пошёл ты, капитан, — выдохнул он и рванул за мной.
Мы побежали. Рваные, злые, вооружённые до зубов, с одной мыслью: успеть.
Сзади, из прорехи в палатке, лезли всё новые и новые тела. А впереди, за камнями, в мареве, уже угадывались очертания Мелильи.
Бежим. Соколов сзади хрипит, как надорванная гармонь, но не отстаёт. Молодец, подпоручик. Из таких получаются или покойники, или герои. Третьего не дано.
В голове — каша. Чугун с битым стеклом. Мёртвые встают. Я такое в книжках читал — Гоголь, «Вий». В Галиции старики про вампиров рассказывали. Смеялись тогда. Думали — бабкины байки для салаг.
А теперь сам бегу. И кола осинового нет. Только винтовка.
Дураки мы были. Городские, книжные дураки.
Впереди — Мелилья. Испанский порт. Сейчас главное — добежать.
В Мелилье — что? К войскам примкнуть, если там ещё есть войска. Испанцы — такие же сволочи, колонизаторы, как и французы, но у них пулемёты. И пушки. И корабли. Если весь лагерь встал, если эта хворь по всему фронту — без пушек не обойтись. Значит — к своим, к легиону. Если свои ещё есть.
А если всё совсем плохо? Если и порт уже…
Тогда в море. — я сказал это вслух, сам не заметив как.
— Вплавь, капитан? Ты чего?
— Знаю. — Голос прорезался, стал твёрже. — Значит, до Франции. До Марселя. На любом корабле, который ещё плывёт.
Мысль о них — как удар под дых. Тёплая, липкая, от которой глаза щиплет и дыхание перехватывает сильнее, чем бег.
Катя. Тоненькая, светловолосая, с веснушками на носу. Познакомились в Петрограде, в консерватории. Молодой был, влюбился с первого взгляда. Сын, Коля, пять лет. Серьёзный, всё книжки читает стремится. Дочка, Аня, три года. Хохотушка, мамина радость.
Они сейчас обедают, наверное. Катя варит кофе, дети капризничают, не хотят есть. Солнце светит в окно, мирное французское солнце. И они не знают, что я бегу по африканской пустыне от мертвецов, которые встали и жрут живых.
Я вернусь. Я обязательно вернусь. Даже если для этого придётся пройти через весь этот ад. Даже если придётся стрелять, пока не кончатся патроны, а потом бить прикладом, пока не сломается приклад, а потом рвать зубами.
— Капитан! — крикнул Соколов. — Справа!
Я повернул голову. Справа, из-за бархана, выходила ещё одна группа. Человек десять. В форме легионеров. Идут к нам. Не быстро, но перекрывают дорогу.
— Свои? — выдохнул Соколов.
Я вгляделся. Походка. Не человеческая. Та же шаркающая, неестественная, с заплетающимися ногами.
— Не свои, — сказал я. — Бежим быстрее.
Мы рванули из последних сил. Ноги уже не бежали — перебирались, переставлялись, как чужие. Лёгкие горели огнём.
Сзади нарастал хрип. Многоголосый, булькающий, от которого стыла кровь.
Я бежал и видел перед собой только её лицо.
Катя. Я иду. Слышишь? Я иду, родная. Дождись.
Мы отбежали достаточно далеко, чтобы лагерь превратился в дымное пятно. Соколов рухнул на колени, ловя ртом воздух. Я опустился рядом, прислонившись спиной к валуну.
Тишина. Только ветер шелестит песком да где-то далеко, со стороны лагеря, доносится едва слышный хрип.
Я закрыл глаза. В голове крутилось одно: это конец. Не для меня — для всех. Если мёртвые встают, если эта зараза пойдёт дальше, в Европу… Катя, Коля, Аня…
— Вставай, — сказал я, открывая глаза. — Времени нет.
Соколов поднялся, держась за бок. Лицо белое, губы в кровь искусаны, но глаза — живые, злые.
— Не знаю. — Я посмотрел на горизонт. Мелилья уже виднелась отчётливее — белые стены, крыши, колокольня. — Но добежать надо.
— Добежим. — Он сплюнул кровью в пыль. — Ты ж к семье, Дмитрий. Значит, добежим.
Мы пошли дальше. Но тот миг тишины остался во мне ледяным комком.
Впереди были Мелилья, порт, корабли.