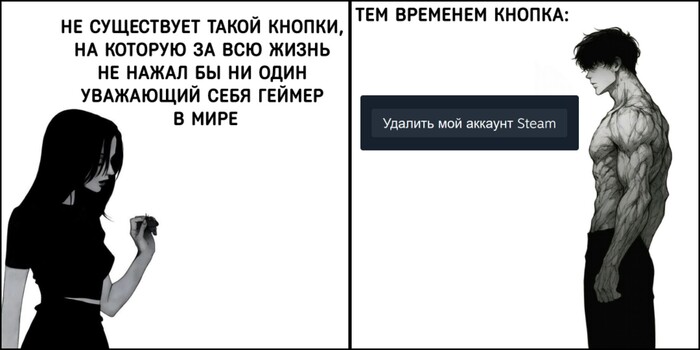Я живу в самой глуши Западной Виргинии – одинокий фермерский дом стоит среди акров бескрайних пастбищ. Я живу здесь один уже почти четыре года – если не считать редких бездомных котов, заглядывающих ко мне за ломтиком ветчины.
Ко мне никто не приходит. Ни гости, ни коммивояжеры, ни Свидетели Иеговы, ни мормоны с их магическими кальсонами.
Никто не приходил – до прошлого четверга.
Я сидел, как обычно, перед старым пузатым телевизором и смотрел один из тех немногих каналов, которые еще ловит антенна. Меня трудно заставить оторваться от кресла, но стук в кухонную дверь просто подбросил меня на месте. Я осторожно выглянул через арку, ведущую в кухню.
Ее силуэт за мутным дверным стеклом заставил меня замереть.
Сквозь тонкую белую занавеску я видел, как она смотрит прямо на меня.
Она снова постучала, стекло жалобно звякнуло.
Ну вот. Придется открывать.
Я взглянул на часы на деревянной стене. 22:17.
Вздохнул и поплелся к двери.
Скривился – в нос ударил тошнотворный запах ириски и перечной мази, просачивавшийся сквозь щели в раме.
Латунная ручка казалась странно холодной на ощупь – как предупреждение.
Но я все же открыл дверь на дюйм.
В кухню хлынул влажный ночной воздух – и ее смрад.
Передо мной стояла старуха, согнутая в три погибели, будто должна передвигаться только с тростью или ходунками. Но ни того, ни другого не оказалось.
Я сжал зубы, глядя в белесые безжизненные глаза, с отвисшими нижними веками. И выпалил:
Ее дрожащие руки разглаживали грязь, плотно запятнавшую цветастое платье. Под грибковыми ногтями – земля и занозы, будто она ползла ко мне на холм.
Она ответила голосом, приторно-сладким, как запах ириски:
Я глянул через ее плечо вниз по длинной грунтовке, уходящей в темноту на мили.
– Вот уж нет. Возвращайся туда, откуда пришла.
И захлопнул дверь перед ее лицом.
Не самый достойный поступок.
Я не отрывал от старухи взгляда сквозь стекло, щелкая замком и выключая свет на кухне.
Остаток ночи прошел обычно – я сидел в кресле и смотрел старые серии “Дымка из ствола”, пока не потянуло ко сну.
На следующий день я и не вспомнил про старуху.
Мой распорядок прост: черный кофе за кухонным столом, потом – на крыльцо, смотреть на коров и горох. Жизнь не для всех, но если бы вам достался старый фермерский дом и наследство от бабушки с дедушкой, вы бы наверняка не жаловались.
В августе солнце заходит около половины девятого.
Я стоял напротив окна над раковиной: небо стало темно-синим, за горами тлея остатками желтого. Тем вечером решил испечь хлеб – занятие приятное, простое, и делает меня толстым и довольным.
Посыпал мукой скалку, раскатывал тесто на столешнице…
Когда вокруг так тихо, глаза сами блуждают – я все время поглядывал в окно.
Всегда любил смотреть, как телята прижимаются к матерям на ночь.
Пока не заметил одну странную корову – короткую, неуклюжую, двигавшуюся скорее как раненая собака, чем как телка.
Я перестал катать тесто и прищурился.
Остальные коровы мычали от ужаса и разбегались от нее. Все мои коровы – черные ангусы. А у той была белая голова. Чужая. Может, сбежала с соседнего ранчо за несколько миль отсюда…
Я решил разобраться сней утром – пока не услышал, как она «мычит».
Этот звук был неправильным.
Я схватил ружье, стоявшее у старой дровяной печи, и выскочил на крыльцо. Теперь «телка» стояла на двух ногах и смотрела на меня.
Хотя нет – это была не телка.
В темноте я различал ее сморщенную кожу и пустые глаза. И длинное черное платье, волочившееся по мокрой траве.
Не раздумывая, я крикнул:
– Лучше тебе, старая, убраться отсюда к чертовой матери!
Она склонила голову, как плохо обученная собака.
А потом встала на четвереньки – и рванула ко мне.
Она приблизилась почти вплотную быстрее, чем я успел моргнуть.
Но сердце ушло в пятки, и единственное, что я смог – это броситься в дом.
Я захлопнул дверь, задвинул засов и уставился в узкое окно.
Она стояла прямо по ту сторону, прижав потную ладонь к окошку.
Из ее рта вырывалось тяжелое, хриплое дыхание, осевшее облачком на стекле.
Мне понадобился час, чтобы прийти в себя.
И я даже теперь не могу понять, что тогда произошло.
В ту ночь я заклеил окно двери мусорным пакетом, проверил замки на всех окнах и на двери в погреб.
Спал с ружьем, прислоненным к вычурным цветочным обоям спальни.
Сами обои напоминали платье этой ведьмы – от одного взгляда хотелось зажмуриться и молиться о сне.
Утром я, признаюсь, дрожал.
В зеркале комода – отразились тяжелые тени под глазами.
Я все тер лицо ладонями, надеясь стереть хоть немного безумия бессонной ночи.
Та старуха не была человеком.
Я невольно думал – что было бы, догони она меня тогда.
Молился, чтобы она ушла, но был готов к возвращению.
Я спустился вниз, заставил себя приготовить яичницу. Налил в старый термос «Стэнли» крепкий кофе. Открыл ящик и достал дедов ржавый нож. Осторожно приоткрыл кухонную дверь и выглянул на крыльцо.
Даже странно – при дневном свете она, пожалуй, не выглядела бы столь страшной.
Я решил проверить скот и вышел наружу.
Поднялся на холм, проходя мимо коров, – все на месте, пасутся, немного раздраженные моим вниманием.
Но, дойдя до вершины, понял – не все были целы.
На боку лежал бык. Мертвый. Над ним уже жужжали мухи.
Вокруг его шеи чернело кружевное платье, затянутое, как удавка.
Я похолодел, осмотрелся – не следит ли ведьма.
Потом наклонился, поднял голову быка – и услышал хруст сломанной шеи.
Я заставил себя не думать об этом.
Не думать о том, как старуха смогла сломать быку шею платьем.
И не думать о голой бабке, бегающей по моим полям.
Весь вечер ушел на то, чтобы отвезти тушу в яму для падали.
Я сбросил быка поверх костей его предшественников, посыпал его известью – чтобы не тянуло смрадом на мили.
Потом сел на крыльце в качалку. Цикады орали как сумасшедшие.
Я пил сладкий чай, будто крепкий виски, и смотрел на зелень и первое золото августовских деревьев.
Август – медленная смерть. Моргни – и листья исчезнут. Придет осень. Все своим чередом.
Остаток дня прошел спокойно.
Я, впрочем, все время прислушивался.
Я лег, натянул бабушкины колючие вязаные одеяла и уставился в потолок запятнанный разводами воды.
Я знал почему – просто не хотел признавать.
Глаза слипались, но разум не позволял.
Я смотрел по сторонам – на худо сделанные чучела, на оленьи рога, на свадебные фото бабушки и дедушки шестидесятых годов.
На крюк в углу, где висел бабушкин бархатный халат.
На стену, увешанную крестами всех форм и размеров.
В этом доме нет почти ничего моего – только ящик с одеждой.
Он все еще принадлежит им.
Сохранил энергию бабушки.
Каждый раз, входя на кухню, я полусознательно жду увидеть ее у плиты, мешающую подливу.
Я уже начал дремать, когда снаружи раздался громкий удар.
Я вскочил, сбросил одеяла, босые ноги коснулись холодного пола.
Схватил ружье и вышел в коридор.
Спускался осторожно, стараясь не скрипнуть половицами, не задеть семейные портреты.
Внизу желтел ковер гостиной.
Стакан молока на столике – нетронут.
Я подняв ружье, крался к арке, ведущей на кухню.
Стекло на двери заклеено.
Не в доме – не значит, не рядом.
Я посмотрел в окно над раковиной. Пустые холмы. Ни следа скота.
Прислонил ружье к шкафу, поддел мусорный пакет и выглянул наружу.
Я стоял так, слушая, минут двадцать.
Потом решил – можно спать.
Дышать ночью было тяжело. Словно кто-то сидел у меня на груди, выжимая воздух из легких.
Я заставил себя дышать ровно. И только тогда понял – в комнате два дыхания.
Собачье прерывистое дыхание из темного угла.
Сердце застучало в горле, кровь отхлынула лица.
Я думал притвориться спящим. Не смог.
Зрение привыкло к темноте, и я различил желтые зубы и мутные глаза.
Она смотрела прямо на меня.
Я вцепился в одеяло, будто в спасательный круг.
Взгляд сам метнулся к стене, туда, где должно было стоять ружье.
Меня трясло так, что зубы стучали.
Минут через тридцать я все же смог выдавить:
– Ч-чего ты хочешь от меня?..
Только дыхание стало ровнее. Почти… довольным.
Кукушка куковала каждый час.
Двенадцать. Час. Два. Три. Четыре.
Я не спал. Все смотрел на нее.
В шесть утра улыбка сползла с ее лица. Оно стало пустым.
Старуха поднялась, вышла из комнаты, заскрипев ступеньками, словно собственными костями.
Не стыжусь признаться – я заплакал.
Слезы, которые сдерживал всю ночь, хлынули наружу. Я так боялся, что громкий звук заставит ее броситься на меня.
Я с трудом встал, оделся, снял со стены крест и сжал его в руке, спускаясь вниз.
Она сидела за моим кухонным столом и ела сухие хлопья, о существовании которых я и не знал. Старуха не могла как следует закрыть рот – молоко вытекало сквозь щели между зубами и капало обратно в миску.
Аппетит я потерял мгновенно.
Полчаса смотрел, как она хлюпает одним и тем же молоком.
Она чувствовала себя как дома: растопила дровяную печь так, что кухня превратилась в ад. Потом забралась в дедовское кресло и просидела там весь день.
Я пытался говорить. Просил уйти. Умолял.
Нужно было только сделать это.
Вечером, после ужина, она рылась в старых газетах. Облизывала пальцы, листая страницы. Долго сидела над некрологами, потом – над кроссвордом. Застряла на «6 по вертикали»: восьмибуквенное слово, означающее «бесконечность».
Я знал ответ, но не смог произнести.
Потом она взяла ручку и обвела объявления о работе – в похоронных бюро, на мясокомбинатах, в бойнях. Подняла мутные глаза, встретившись с моими, и пододвинула газету ко мне.
Это стало последней каплей.
Я отодвинул стул, резко встал.
Прижал к плечу, снял с предохранителя.
Навел ствол на ее затылок.
Я положил ружье на стол и подошел ближе.
Осколки черепа и мозги забрызгали столешницу. Она лежала лицом вниз, раскинув руки. Кровь медленно вытекала из дыры в затылке.
Я сломался. Опустился в гостиной на диван, закрыл глаза и заплакал…
А беспорядок уберу потом.
Но все это не самое худшее.
Худшее то, что через час она была снова… жива.
Стояла у плиты и мешала грибной суп.
На лбу – слабый след от пули, исчезающий с каждой секундой.
Я не был честен с вами до этого момента.
Я боюсь ее не потому, что она вошла в мой дом.
А потому, что она вообще жива.
И говорю с уверенностью: я уже хоронил эту старую ведьму.
Тогда она впервые поднялась по моей дороге. Я сидел на крыльце и наблюдал за бредущей фигурой. Может, у нее деменция, старуха потерялась… Она села в мое кресло-качалку, будто у себя дома. Мы молчали минут десять.
– Айрин и Харлан жили здесь.
Это были имена моих бабушки и дедушки.
Она впервые посмотрела прямо на меня. В глазах – ни жизни, ни тепла.
– Ты был не слишком добр к ним.
– Я ухаживал за ними годами, пока остальные хотели сдать стариков в дом престарелых.
Старуха откинулась назад, вынула из кармана кусочек клубничной конфеты и задумчиво пожевала.
– Как они умерли? – спросила она.
Пот выступил у меня на лбу. Я прищурился.
– Дед Харлан не вынес, когда бабушке диагностировали рак. У него сердце не выдержало.
Старуха задумчиво помусолила конфетку во рту, чавкая так, что у меня мороз по коже пошел. Потом сказала:
– Странно, что у них не было похорон.
Я ощутил неловкость и пробормотал, что-то про нехватку средств.
– Их кремировали, – добавил я.
Старуха развела руками, глядя на дом и землю вокруг, и произнесла:
– А ты много нажил на их смерти.
Мне надоело ее это слушать.
– Слушай, я устал и не люблю гостей. Не знаю, как ты сюда попала и зачем, но лучше уходи. Если нужно позвонить с домашнего – не проблема. А так – убирайся.
Ее отвисшая челюсть опустилась еще ниже. Ломанно,она подняла себя из кресла и, покачиваясь, встала. Подошла ко мне, произнесла нейтрально:
Я вздохнул с облегчением, потянул за дверную ручку... И тут она вдруг бросила то, что приковало все мое внимание и сбило дыхание:
– Я бы их под тем старым дубом не закопала.
Ее губы, дряблые и липкие, шевелились, как червяки:
– Айрин и Харлан заслуживали лучшей участи. Не такой.
Кровь ударила мне в лицо.
– Ты старая чертова треснувшая погремушка. Ты не знаешь, о чем говоришь. Уходи, сейчас же.
Она улыбнулась зловеще, показав слишком много зубов:
– Когда-нибудь это будет мой дом. Мне здесь нравится.
Ее взгляд вызвал во мне какую-то бешеную ярость и одновременно тошноту. Я помню, как холодный металл ножа моего деда обжег мне бок. И больше я ничего не помню.
Не могу объяснить, что на меня нашло. Я не маньяк. Но вот она была мертва. А я – весь в ее крови. Я похоронил ее под полом. Оторвал отвратительный желтый ковер, пробился через фанеру до старого деревянного пола, копал ветошь голыми руками, пока не добрался до земли, и вырыл ей неглубокую могилку.
Я посыпал тело известью. На ферме ее хватает – никто не хочет нюхать тухлятину.
Когда она сказала, что это будет ее дом, я не понял, о чем речь. Может, это была божественная кара, а может – жестокое наказание. Тогда, в ту первую встречу, она все болтала. Теперь молчит – и это сводит меня с ума.
Она мучает меня по-разному. В доме теперь всегда жарко – она постоянно топит печь. Печь всегда топил дед, я – нет… теперь она не гасит ее никогда. Мне жарко, но тело не дает потеть – я горю изнутри и не могу охладиться. Стою в доме, задыхаясь при попытке выйти на крыльцо: будто невидимые руки давят мне на горло и легкие, не дают вынырнуть. Я возвращаюсь в дом и включаю телевизор – пусть Джеймс Арнесс снова кого-то пристрелит. Она крадет пульт, убавляет звук так, что я уже почти не слышу.
Еда исчезает из шкафов – она все съедает, а у меня ощущение, что ее порции не уменьшаются. Я теряю аппетит, пока голод не превращается в онемение в животе. Таю, словно привидение; каждый мой орган угасает и гаснет.
Вчера я не вынес и вышел, чтобы отдаться удушью. Страх был невыносимый – ни на что не похожий страх смерти. Я думал, вот он, конец, как у деда и бабушки под дубом. Я помню черную пустоту, которая окутывала меня, как теплая река. Потом… ничего. Мне казалось, что это мирный конец. Но утром я очнулся под полом, выплевывая комья теплой августовской земли и кишащих червей. Над полом шипел телевизор, слышался хруст конфетной обертки – и старуха что-то жевала.
Я пытался раскопать землю, но она все сыпалась сверху. С каждым ударом паника разрывала сердце…
Наконец, я выломал пол и заполз в кресло весь в грязи. Она не взглянула в мою сторону – только крутила во рту конфету и смотрела в телевизор.
С течением времени старуха устраивалась у меня в доме все основательнее. Однажды я лег в постель, попробовал погрузиться в беспробудный сон – и услышал ее шаги. Легкий топот до самой кровати. Матрас прогнулся, она медленно, расчетливо села рядом, затем перебросила ноги через край и толкнула меня на спину. Я только с дрожью втянул воздух. Старуха прижалась к моему телу, обвив меня дряхлой рукой. Кожа ее была холодна, покрыта пятнами цвета печени, и я ощущал запах тухлой коровы. Тонкие, жесткие волоски торчали по всей поверхности ее рук. Она хрипела– ее дыхание липко блуждало по мне. Я не мог вдохнуть. Она лежала, смотрела на меня, и храп – влажный и громкий – вырывался из ее горла. Старуха спала с открытыми глазами.
Я вылез из кровати и сидел на диване до рассвета. Пусть она забирает постель – мне она не нужна. Мне уже не надо спать.
В шесть утра я пытался убить ее снова. Обмотал полотенцем шею. Она хрипела, корчилась. Я не отпускал, пока не услышал щелчок – ее трахея лопнула. Я стащил ее труп вниз и выбросил за порог. Было глупо думать, что это решит дело.
Через несколько часов я услышал ее прерывистое дыхание в спальне. Нашел старуху на коленях, вываливающей мои вещи из единственного ящика. Я ничего не мог поделать. Она положила свои цветастые платья и парочку коллекционных солонок, аккуратно завернутых в газетную бумагу, в мой ящик.
Дни сменялись неделями. Я отмечал каждый из них маркером. Наконец настало 31 августа. Я просидел весь день у стола, уставившись в календарь на холодильнике. Я трясся. Раньше бы грыз ногти – но теперь они не растут.
Старуха была чем-то занята наверху, бродила и чем-то грохотала – но меня это не трогало. Я сидел и ждал темноты, слушая шум холодильника и потрескивание печи.
Мое зрение сузилось до белого квадратика календаря. Время приближалось.
Пока старики не умерли, я никогда не молился. Теперь молюсь, чтобы она меня отпустила.
Получилось? Август позади? И тут вся электроника дома погасла. Я оказался в кромешной тьме, холодильник замолчал, телевизор потух. Горячий воздух вонью ударил в лицо. Я не шелохнулся, не сводя глаз с календаря.
Через минуту мигнула лампочка.
Отметки с календаря исчезли. Снова первый день месяца.
Я, содрогаясь, засунул ружье в рот и нажал на курок.
Темнота накрыла меня, как прилив. Казалось, это должно было успокоить. Я проснулся с зияющей дырой во рту. Волосы и кожа головы двигались сами по себе, будто череп зашивали, кусок за куском. Боли не было. Никакой боли.
Август растянулся в вечность, и я застрял в нем. Я понял, что боюсь не самой старухи – я боюсь этой вечности. И теперь живу в доме с запахом нафталина и ириски, где по телевизору вечные вестерны, где пледы пахнут смертью. Я не могу жить и не могу умереть. Это моя вечность.
Поэтому, прошу вас: будьте осторожны. Никогда не открывайте дверь старой женщине, постучавшей в вашу дверь.
Телеграм-канал чтобы не пропустить новости проекта
Хотите больше переводов? Тогда вам сюда =)
Перевела Юлия Березина специально для Midnight Penguin.
Использование материала в любых целях допускается только с выраженного согласия команды Midnight Penguin. Ссылка на источник и кредитсы обязательны.