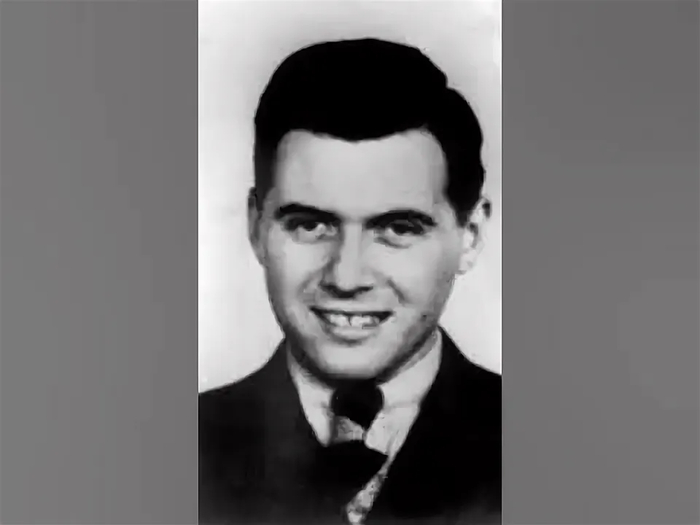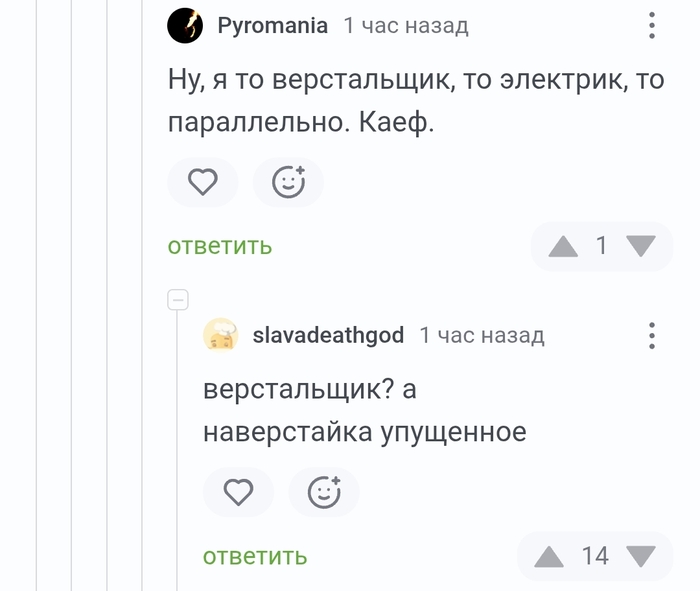О борьбе за живучесть в учебном отряде подводного плавания
Меня часто спрашивают гражданские романтики:
— Матрос Тузов, а чему вас учили в учебном отряде? Наверное, устройству реактора? Баллистическим расчетам полетов ракет? Борьбе за живучесть? Секретным тактикам?
Я смеюсь им в лицо своим швейковским смехом.
БЗЖ (Борьба за живучесть) – это действительно наше всё. Но в учебке «живучесть» понимали своеобразно.
Помню, как нас бросили на разгрузку вагона со стекловатой. Без респираторов, в робах. Вот это было БЗЖ! Ты борешься не с огнем или водой, а с желанием содрать с себя кожу. Мелкая стеклянная пыль въедалась в поры, в легкие, в душу.
Нас потом, как героев труда, даже в баню сводили вне очереди. Помогло это так же, как мертвому припарка или сломавшему ногу – клизма при переломе. Мы чесались еще неделю, светясь в темноте от ненависти.
Но стекловата — это цветочки. Ягодки всегда случались на плацу.
Командование учебки решило, что атомная подводная лодка перемещается в океане исключительно строевым шагом. Главными хореографами этого театра абсурда были главный старшина статьи Кошкин и старшина первой статьи Юрченко. Люди, у которых вместо сердца был метроном, а вместо нервов — Устав строевой службы. Они не терпели «разброда и шатания».
— Это что за строй?! — ревел Кошкин, глядя на нас. — Это не строй, а стадо беременных тюленей! Вы почему по росту не выровнялись?! Херринг вас знает, чему вас дома учили!
Если бы они увидели современное фото, где матросы идут «толпой», их бы удар хватил. У нас даже контуженные из лазарета ходили в ногу!
А для тех, кто не понимал геометрию строя, у Кошкина было любимое упражнение — «Цапля».
— Рота, делай раз!
И двести лбов в дубовых яловых сапогах замирали с поднятой ногой.
— Носочек тянем! Ступня параллельно земле! Высота — ровно 45 сантиметров!
Если кто-то опускал ногу или шатался, включался режим «Шагающая цапля». Мы ходили по плацу, задирая колени к подбородку, будто болотные птицы. Час. Два. Пока строй не становился идеальным, как по линейке. Мышцы каменели, потом начинали дрожать, затем – гореть огнем.
— Держать осанку! — ревел Кошкин.
— Отставить, идиоты! Вы, недоумки, даже носочек тянуть не можете, какие вам подлодки! Будете так тянуть носок, пойдете могильники ядерных отходов охранять на Новую Землю!
К концу месяца наша рота напоминала отступающую армию Наполеона. В голове строя шли те, у кого ноги были из железа. А в хвосте, человек двадцать — «инвалидный батальон». Они шлепали в тапочках, потому что их ноги в сапоги уже не влезали. Пальцы гнили, мозоли лопались, превращая портянки в кровавое месиво. Шрамы на пальцах ног у меня остались до сих пор. Как память о том, что Родина любит, когда ты тянешь носок.
Однажды, недели через две после принятия присяги, Кошкин превзошел сам себя. Он держал нас в позе «цапли» до обеда. Потом весь обеденный перерыв. И перед ужином – на десерт.
Мой организм решил отомстить мне ночью.
Я спал мертвым сном праведника. И вдруг — удар током. Судорога. Сначала свело левую ступню. Пальцы загнулись в неестественную дугу. Потом этот спазм, словно живой чужой, пополз выше. Икра превратилась в камень. Бедро скрутило жгутом. Боль была такая, что хотелось выть, но я не мог даже вдохнуть. Судорога перекинулась на ягодицы, сковала поясницу, а потом, не останавливаясь, ударила во вторую ногу.
Я выгнулся на койке дугой, будто в припадке экзорцизма. Мышцы стали тверже корабельной стали. Лежал, парализованный болью, с открытым ртом, из которого не вылетало ни звука.
Спасение было одно. Руки, слава Богу, были свободны. Я нащупал свой «НЗ» — под тельником прятался крестик на булавке. Я вытащил булавку и начал яростно, со всей дури, колоть себе ноги. В икры, в бедра. Кровь, боль от уколов — это стало спасением. Мышцы дернулись, спазм начал медленно, неохотно отступать, шипя, словно змея.
Кое-как меня отпустило. Лежал мокрый, исколотый, с дикой болью в мышечных волокнах. С тех пор судороги — мои верные спутники. Стоит переохладиться или перенапрячься — и привет, Кошкин.
А днем ад продолжался, но уже в другом формате.
Нас завели на третий этаж казармы. Длинный, широченный коридор, уходящий в бесконечность. Вдоль стен — два ряда двухъярусных коек. Возле каждой — табуретка (она же, как помним, «банка»). Посередине — «взлетная полоса», застеленная линолеумом, который на флоте гордо именуют пластикатом.
Нас, человек 30 «свежих», расставили вдоль стен. Мы стояли тихо, будто мыши под веником. А на пластикате шло представление. Там было построено другое отделение. Ими командовал старшина первой статьи Ющенко. Типаж колоритный: жиденькие, мерзкие усики а-ля «поручик-неудачник» и выражение лица человека, который ненавидит всё живое, включая себя.
— Рравнясь! — визжал он.
Строй поворачивал головы.
— Отставить! Плохо! Голова должна щелкать! Рравнясь!
Щелк.
— Отставить! Рравнясь! Сми-ирна-а-а-а!
Строй замирал.
— Отставить! Вольно! Разойдись!
Топот сапог.
— Отставить! Построиться на среднем проходе!
И так — час. Два. «Равнясь – отставить. Смирно — отставить».
Мы стояли и смотрели на эту пытку, как загипнотизированные. А потом сами вставали на тот же пластикат. И теперь уже кто-то другой замер у стены и наблюдал, как нас дрессируют, превращая в послушную массу.
Кстати, самым страшным врагом матроса был не старшина, а Утренний осмотр. Офицеры и мичмана искали врагов народа: грязные гюйсы или подворотнички, или, о ужас, недобритые щеки.
Мне повезло. Я был «буржуем». Захватил с гражданки упаковку лезвий Gillette. В те годы это было всё равно что иметь лазерный меч джедая. «Жилет» брил мягко, чисто и с первого раза.
А вот моим товарищам не посчастливилось: у них были советские лезвия «Нева» или «Ленинград». Я не знаю, из чего их делали. Наверное, из переплавленных дизелюх Балтийского флота. Эти лезвия не брили. Они выдирали волосы вместе с эпидермисом и совестью.
Парни ходили с такими лицами, будто их драли кошки. Поцарапанные, в кусочках газеты на порезах. Но и это не спасало.
— Недобрит! — орал проверяющий, проводя пальцем по щеке. — Наряд вне очереди!
Особенно страдали ребята с юга: лица кавказской национальности и гуцулы. У этих парней щетина росла со скоростью бамбука. Побрился утром, снял с себя скальп «Невой», а к обеду у него на щеках уже синяя тень. К ужину — борода. Их заставляли бриться по три-пять раз на день! Бедолаги стояли у зеркал с красными, воспаленными лицами, проклиная свою генетику, старшину и завод «Нева».
Так из нас выбивали «гражданку». Через боль в ногах, через судороги, через содранную кожу на щеках. И знаете что? Выбили. Роботами мы не стали, но поняли главное: на флоте ты выживешь, только если у тебя есть иголка под подушкой и запас хороших лезвий.
Фото из той самой Северодвинской учебки. Тут мне «глазастые» в комментариях пишут:
— Товарищ матрос, а что это за бардак на фото? Почему строй не по ранжиру? Где «правофланговый — жердь, левофланговый — баночка»? Почему высокие с низкими вперемешку, как шпроты в банке после шторма?
Отвечаю.
Не будем путать парад на Красной площади с возвращением «роты работяг» с полевых работ. Взгляните на форму. Это не «парадка», это «роба».
Фото запечатлело святой момент возвращения с ПХД (паркo-хозяйственного дня) или каких-то грандиозных работ. Может, мы уголь грузили. Может, ломами плац подметали. А может, три тонны картошки перебрали. В такой момент командиру (да и нам) глубоко плевать на эстетику и «фен-шуй» по росту. В такой момент есть только одна задача – дойти до камбуза или казармы, не упав по дороге.
Но! Курсант учебного отряда (он же матрос срочной службы в учебке) — существо, которое не имеет права перемещаться в пространстве хаотично. Одиночное хождение приравнивается к дезертирству или бродяжничеству. Хождение толпой – к бунту. Даже если вы — уставший, грязный «ротный сброд», вы должны образовывать геометрическую фигуру.
Поэтому команда звучит просто:
— В колонну по четыре — СТАНОВИСЬ!
И ты встаешь рядом с тем, кто оказался поблизости. Длинный, короткий, кривой, косой — неважно. Главное — заполнить «коробочку» 4 на 4. Быстро пересчитались, ряды сомкнули — и «Шагом марш» на запах еды.
Так что это не бардак, товарищи. Это суровая правда рабочих флотских будней, где геометрия важнее красоты.
А насчет БЗЖ (борьбы за живучесть) — конечно, учили. Только если в кино это героический эпос, то у нас это был гибрид цирка-шапито и камеры пыток.
Взять хоть выход через торпедный аппарат. Ты в оранжевом резиновом костюме, на пузе тяжеленный дыхательный аппарат ИДА-59, лезешь в мокрую, темную, узкую железную кишку. Ощущения непередаваемые: будто шпроту пытаются запихнуть обратно в банку, но через закрытую крышку. Лежишь, зажат со всех сторон, паника щекочет гланды, а снаружи инструктор «подбадривает» ударами кувалды по корпусу: «Ползи, глиста, ползи!». И ты ползешь, молясь, чтобы передняя крышка открылась раньше, чем у тебя закончится воздух или рассудок.
Или борьба с водой в УТК (учебно-тренировочном комплексе). Инструктор с улыбкой садиста открывает вентиль, и ледяная струя в 5 атмосфер бьет тебя не как душ Шарко, а как боксер-тяжеловес — сразу в душу. Ты летаешь по отсеку в обнимку с деревянными чопиками, пытаясь заткнуть дыру, и бодро докладываешь в «Центральный», что отсек герметичен. Хотя герметичны там были только наши маты.
Но самым страшным врагом была не вода и не огонь. А стихия Флотского Абсурда. Наступала она ночью, когда офицеры исчезали в канцелярии, и власть переходила к «рашпилям» — старшинам, страдающим от скуки. Стоило одному накосячить — начиналось «ПХД мятного периода». На палубу щедро, с художественным изыском, выдавливалось три тюбика ядерной пасты «Поморин». Запах мяты выедал глаза почище слезоточивого газа. Команда: «Драить!». Оружие: твоя личная зубная щетка. И вот ты ползаешь по «взлетке», размазывая эту мятную жижу, стирая щетину в ноль. Вот это была настоящая БЗЖ! Борьба за то, чтобы дожить до утра и выйти на построение с чистой совестью и абсолютно лысой зубной щеткой.
З.Ы. Речь повествования идет о 1991 г., Северодвинской учебке ВЧ 59075