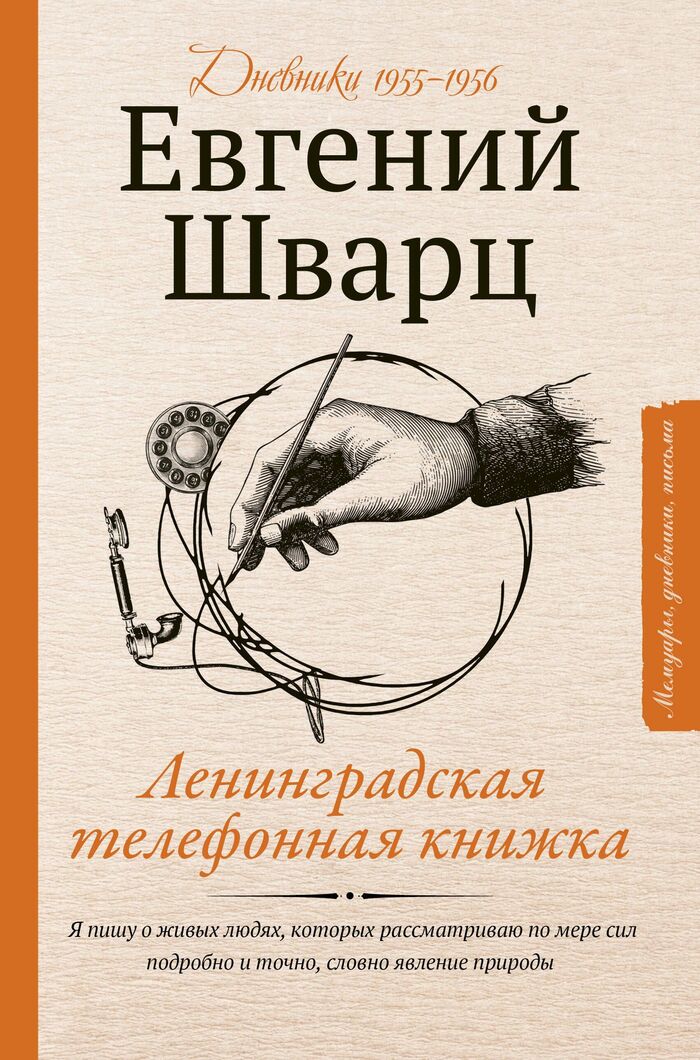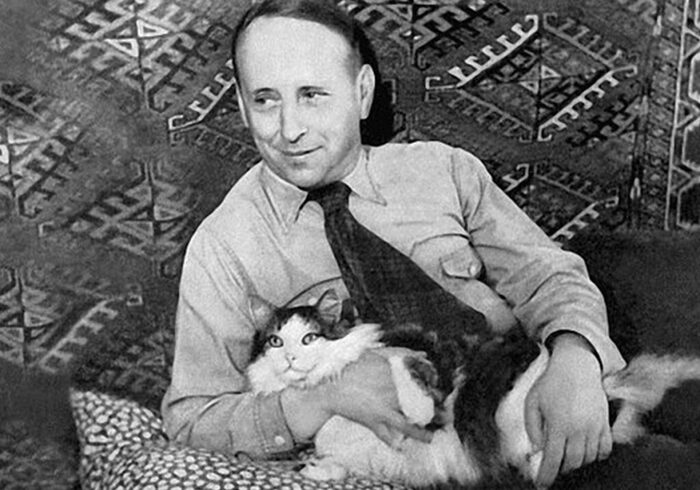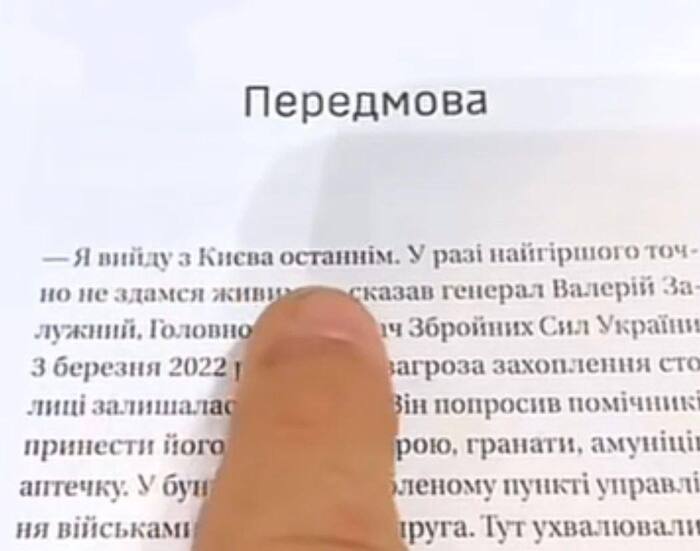Итак «Вся власть Советам!» М.Д. Бонч-Бруевича. Генерал-майор царской армии и старший брат видного большевика Владимира Бонч-Бруевича. Это шляхтичи из Могилёвской губернии. Тут уже не сказать, что человек с большевиками поневоле, как Брусилов. Здесь мы имеем семейные обстоятельства. Генерал Бонч-Бруевич имел статус посерьёзнее: сидел на совещаниях с Лениным, участвовал в подписании Брестского мира, его хотели репрессировать, да Дзержинский не позволил. Не простой военспец. После возвращения воинских званий и погон в 1944 получил генерал-лейтенанта. К тому моменту Бонч-Бруевич разменял восьмой десяток и в ВОВ не участвовал. Человеку просто вернули погоны.
В Первую мировую послужил у генерала Рузского в качестве и.о. начальника штаба Северного фронта. После Февральской революции заявил о лояльности Временному правительству и даже успел немного поруководить Северным фронтом. Главнокомандующим не был, но в мемуарах говорит, что ему предлагали, а он отказался. Оно и понятно, к тому времени все эти генералы были не в моде, это было при большевиках, поэтому главнокомандующим стал прапорщик Крыленко (не шутка).
Советским генералом его впервые назвали ещё до установления советской власти. Само слово “советский” только появилось. Оно ж откуда взялось? Это от советов рабочих и солдатских депутатов, которые появились по всей стране после февраля 1917. Формировались они, кстати, явочным порядком, ни на какие законы не опираясь. А какие законы-то? Революция.
Ну так вот, Бонч-Бруевич с таким советом в Пскове активно сотрудничал (он тогда руководил псковским гарнизоном), поэтому нашего генерала другие офицеры и назвали “советским”. Это ещё Временное правительство прекрасно себя чувствовало. Кстати, тогда же Бонч-Бруевич имел возможность арестовать генерала Краснова – в тот момент участника корниловского мятежа. Это он сам пишет. Хотел, де, арестовать, да пожалел, как генерал генерала. Классовая близость. Какая-то странная история, оттого и упоминаю. Михаил Дмитриевич как будто перед товарищем майором оправдывается, что врага не арестовал, хотя мог. Мемуары-то в советское время писались, надо было как-то объяснить, видимо.
Особенно интересно, конечно, что наш герой лично знал и царя с царицей, и Ленина. Интересна разница в тональности. С августейшими особами у нашего генерала нет никаких авторитетов, он весь такой беспристрастный. Царь его высоким требованиям не удовлетворяет. Интриги, мол, при дворе и в штабе, а тут война, надо дело делать.
Иное же дело с гениальным гением товарища Ленина. Говорит ему Михаил Дмитриевич смиренно на совещании, что не могли немцы стянуть к Петрограду значительные силы, а Ленин отвечает, что так и думал. Ведь Ленин, он же не только вождь мирового пролетариата, но и военный стратег. И товарищ Дзержинский какой умный и проницательный. Товарищи, они вообще такие.
Словом, критиковать можно только тех, кто не увезёт тебя в ЧК, – такое у меня впечатление.