
ЖЗЛ
377 постов

377 постов

268 постов

216 постов

151 пост

99 постов

190 постов

185 постов

185 постов
7 постов

320 постов
7 постов

59 постов
17 постов

60 постов
47 постов
128 постов
1 пост
31 пост
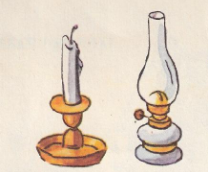
2 поста
3 поста
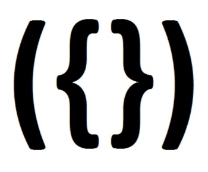
6 постов
19 постов
9 постов
15 постов

373 поста

48 постов

35 постов

57 постов

418 постов
1 пост
11 постов
4 поста
46 постов
3 поста
1 пост
6 постов

998 постов
12 постов
5 постов
5 постов
13 постов
15 постов
2 поста

77 постов

2 поста
2 поста
1 пост
3 поста
1 пост

1 пост

1 пост

3 поста

1 пост

1 пост

37 постов
1 пост
Синкриза морник заниполу -
пурняк во ртуни компира,
бердузни ванту пол катру мзи:
"Вурпи! Вурпи! Вурпа слира!"
Взумкан бризупин куврычанка,
шлох-слох, круз-труз, пританчива.
Нормань кру парен бестанори,
базутинури крунава.
Это физиков била лирика
постмодерном по бездорожью.
Из-под ног выбивая мир, Икар,
дотянув до небес, стал брошью –
едко Солнце, тепло разъедает воск.
Метафизике быта быть ли?
Или же ни к чему она быдлу?
Ядра смысла взрывают мозг.
Кубическа сила I - LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXIII, CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII, CXXXIX, CXL, CXLI, CXLII, CXLIII, CXLIV, CXLV, CXLVI, CXLVII, CXLVIII, CXLIX, CL, CLI, CLII, CLIII, CLIV, CLV, CLVI, CLVII, CLVIII, CLIX, CLX, CLXI, CLXII, CLXIII, CLXIV, CLXV, CLXVI, CLXVII, CLXVIII, CLXIX, CLXX, CLXXI, CLXXII, CLXXIII, CLXXIV, CLXXV, CLXXVI, CLXXVII, CLXXVIII, CLXXIX, CLXXX, CLXXXI, CLXXXII
Когда летом 2018 года Харлан Эллисон ушел из жизни в возрасте восьмидесяти четырех лет, он оставил после себя не только сотни новаторских текстов, но и бесчисленные скандалы.
Всю свою долгую жизнь американский фантаст ругался с читателями, дрался с издателями, спорил с редакторами, изводил продюсеров. Гений и несносный характер сплетались в нем так тесно, что заставляют спросить: можно — и нужно ли — отделять писателя от его прозы? На эту тему размышляет Василий Легейдо.
Несмотря на его миниатюрный рост — всего 159 сантиметров, — достаточно было нескольких минут общения с Харланом Эллисоном, чтобы ощутить исходящую от него угрозу. На то были веские причины. И чтобы не быть голословными, приведем красноречивый пример.
В 1982 году писатель узнал, что его ранний роман «Поцелуй паука» — историю о парне из провинции, ставшем рок-звездой, — в аннотации к новому изданию ради повышения продаж причислили к научной фантастике. В переписке автор ясно дал понять представителям издательства, что не желает манипулировать мнением читателей. Узнав, что его просьбу проигнорировали, Эллисон счел это высшей формой неуважения. Он немедленно сел на самолет в Лос-Анджелесе, где жил, и вылетел в Нью-Йорк. Из аэропорта он отправился прямо в издательство. Когда директор появился у своего кабинета, произошло следующее.
«Я заломил ему руку приемом Брюса Ли и поставил на колени, — вспоминал Эллисон. — А потом в таком положении дотащил до двери его кабинета». Он принялся бить директора головой о дверь, пока та не распахнулась. Ввалившись внутрь, писатель схватил стул и разбил его о стену, затем вскочил на стол и вырвал телефонный шнур. Когда директор, прикрывая голову руками, попытался отползти в коридор, Эллисон прыгнул на него и швырнул через комнату — так же, как мгновение назад швырнул стул. Наконец, он встретился взглядом с редакторкой, оцепеневшей от ужаса, и немного пришел в себя. Опыт СИЗО у него уже был, возвращаться за решетку не хотелось. Бросившись к лифтам, он покинул здание прежде, чем кто-нибудь успел вызвать полицию.
Пятнадцать минут спустя Эллисон как ни в чем не бывало вошел в студию кабельного телеканала A&E, чтобы принять участие в записи ток-шоу о научной фантастике вместе с другими звездами жанра — Джином Вулфом и Айзеком Азимовым. Для него это был всего лишь очередной день в писательской жизни.
Один из поздних сборников Эллисона, вышедший в 2014-м, назывался «На вершине вулкана» — таким же мог бы стать заголовок его биографии. Писатель родился в 1934 году в Кливленде, штат Огайо, но рос в крошечном Пейнсвилле, — маленьком городке, где ровесники нещадно издевались над ним за еврейское происхождение и скромные габариты. Сам Эллисон рассказывал, что нападки закалили его и сформировали бойцовский характер. Научная фантастика стала для него отдушиной. Подростком он не только запоем читал, но общался c единомышленниками и редактировал фанзины. После школы он поступил в Университет штата Огайо, однако уже в 1953-м был отчислен и принялся за журнальный палп-фикшн — низкопробное чтиво от незамысловатых детективов до эротических рассказов.
Легенда гласит, что отчислили Эллисона за то, что он врезал профессору, посмевшему усомниться в его литературных перспективах. Когда же книги Эллисона начали выходить в свет, он завел традицию присылать тому самому преподавателю экземпляр каждого нового издания и копию каждой полученной награды. А книг было немало — наград тоже. Эллисон написал почти 2000 рассказов и повестей, телесценариев и комиксов, эссе и колонок. Ему восемь раз вручали премию «Хьюго», своего рода «Оскар» мира научной фантастики, и четырежды — не менее престижную «Небьюлу», учрежденную Американской ассоциацией писателей-фантастов.
Этого уже хватило бы, чтобы имя Эллисона навсегда вошло в пантеон научной фантастики. Но, помимо литературного дара, он с первых шагов проявил к тому же редкий талант оказываться в самом эпицентре скандалов. В начале 1960-х, еще малоизвестный писатель и сценарист, едва перебравшийся в Лос-Анджелес, Эллисон спорил с редакторами до хрипоты и побелевших костяшек, если ему казалось, что те извращают его идеи в угоду студиям или издательствам.
Так случилось и с одним из его первых хитов — сценарием 28-го эпизода первого сезона «Звездного пути», называвшегося «Город на краю вечности». По сюжету доктор Маккой, член экипажа звездолета «Энтерпрайз», во время сильной тряски случайно вводит себе лошадиную дозу препарата. Потеряв рассудок, он прыгает в телепорт и перемещается на ближайшую планету. За ним отправляется поисковая группа во главе с капитаном Джеймсом Кирком и первым офицером Споком. На поверхности они сталкиваются со «Стражем вечности» — разумным порталом, способным перенести в любое место и время человеческой истории. Кирк и Спок прыгают в портал вслед за Маккоем, чтобы спасти его и не дать ему изменить историю, и оказываются в Нью-Йорке периода Великой депрессии.
Там они узнают, что ход истории изменится, если Маккой спасет от гибели женщину по имени Эдит Килер, которую в «нормальной» версии событий должна сбить машина. Кирк и Спок понимают: нужно остановить Маккоя — иначе их будущее исчезнет. Эдит — убежденная пацифистка, и, если она выживет, США не вступят во Вторую мировую, Гитлер победит и подчинит Европу. Проблема в том, что за время, проведенное в Нью-Йорке, Кирк успевает влюбиться в Эдит. Перед капитаном встает мучительный выбор между чувствами и логикой. В конце концов он все-таки принимает решение и не позволяет Маккою спасти Эдит. Она погибает, герои возвращаются на «Энтерпрайз», а привычный ход истории восстанавливается.
Эпизод «Город на краю вечности» стал хитом сразу после премьеры и с тех пор неизменно возглавляет списки лучших серий «Звездного пути». Критики отмечали режиссуру Джозефа Пивни: ему удалось соединить сюрреалистическую атмосферу планеты Стража Вечности с мрачными буднями Нью-Йорка 1930-х. Высоких оценок удостоился и Уильям Шатнер, сыгравший Кирка, — его привычная высокопарная манера в контексте любовной истории выглядела неожиданно искренне и совершенно уместно.
Однако и зрители, и критики сходились во мнении, что главным залогом успеха «Города на краю вечности» стал выдающийся сценарий, единственным автором которого значился Эллисон. В нем поднималась этическая дилемма, особенно актуальная для эпохи холодной войны, взаимных угроз и международных кризисов: можно ли оправдать всеобщим благом гибель одного человека? А если речь идет не просто о человеке, а еще и добродетельной женщине, которая основала полевую кухню для неимущих и борется против войны? И как быть, если тот, кому предстоит сделать этот выбор, еще и испытывает к этой женщине сильные чувства? Кирк влюбляется в Эдит не только за красоту и ум, но и потому, что она воплощает утопические принципы, которым он стремится следовать как офицер Звездного флота. Однако эти же принципы и заставляют его позволить ей погибнуть.
Такой сюжет легко мог бы послужить основой для философской статьи или даже монографии. Однако Эллисон не спешил принимать поздравления. Получая на церемонии «Хьюго» статуэтку за лучшую драматическую постановку, он язвительно посвятил победу «памяти того сценария, который они изуродовали, и тем его частям, что оказались достаточно жизнеспособны, чтобы пережить это надругательство». Следующие полвека Эллисон не уставал ругать «Город на краю вечности» и отказывался признавать эпизод своим. По его словам, он лишь создал черновик, который по настоянию продюсера Джина Родденберри был почти полностью переписан другими авторами — Дороти Фонтаной, Джином Куном и Стивеном Карабатсосом. Сам Родденберри тоже активно участвовал в редактуре (позже он объяснил правки бюджетными ограничениями, которые сценарист проигнорировал). Писатель был так недоволен результатом, что даже потребовал убрать свое имя из титров на стадии постпродакшна. После уговоров он все же согласился остаться единственным сценаристом — и позже всю жизнь жалел об этом (по меньшей мере на словах).
Он рассказывал каждому, кто был готов слушать, как его обманули и изуродовали его сценарий. И в этой привычке характер Эллисона проявлялся, пожалуй, даже ярче, чем в случае с нападением на издателя. На месте писателя многие были бы счастливы видеть свое имя в титрах хита и с удовольствием использовали бы новый статус для карьерного роста. Но Эллисону компромисс был чрезвычайно некомфортен. В 1975-м он включил в сборник «Шесть научно-фантастических пьес» свою версию сценария. Общая фабула — необходимость восстановить нормальный таймлайн и позволить Эдит Килер погибнуть — не отличалась от сериальной версии, но также фигурировали дополнительные линии, например член экипажа-наркоторговец, которого Родденберри вычеркнул, чтобы не рушить утопически-идеалистический образ будущего.
Кроме того, в первоначальном сценарии Эллисона фигурировали трехметровые инопланетяне (их заменили на куда более бюджетный в производстве говорящий портал), космические пираты, возникшие из-за искажения таймлайна, и ветеран Первой мировой войны. Но самое существенное отличие касалось кульминации: Кирк так и не решался позволить Эдит погибнуть — решение принимал за него хладнокровный Спок. В отличие от Родденберри, Эллисон видел в капитане «Энтерпрайза» человека, который ни при каких обстоятельствах не пожертвовал бы любимой, даже если бы от этого зависела судьба Вселенной.
Похоже, что Эллисону, как писателю и человеку, была присуща вечная неудовлетворенность. Он был не просто скандалистом, но и идеалистом-мечтателем, непрестанно воображавшим более совершенный мир — тот, где его замыслы доходят до читателя в первозданном виде, издатели беспрекословно исполняют его пожелания, а продюсеры не навязывают свои представления. Мечта об этом мире подстегивала его сражаться и работать. Но работа на телевидении все чаще оборачивалась разочарованием, и Эллисон остался прежде всего писателем: в литературе, несмотря на вмешательство редакторов и издателей, он обладал достаточным авторитетом, чтобы диктовать свои условия.
Эллисон обладал удивительной способностью превращать свое вечное недовольство всем вокруг в творческую энергию, направляя внутренний огонь не только на склоки, но и на создание шедевров. Его самые известные рассказы умещаются на нескольких страницах, но почти каждый из них — злое и пугающе правдивое пророчество о мрачном обществе будущего и безотрадных перспективах человечества. Во многом они похожи на своего автора — бурлящего изнутри коротышку в кожаной куртке и с неизменной трубкой, в любой момент готового взорваться то гениальной идеей, то мизантропичным интервью, то хуком справа.
Самый знаменитый рассказ Эллисона — «У меня нет рта, а я должен кричать» — вышел в тот же год, что и «Город на краю вечности». Его действие разворачивается десятилетия спустя новой мировой войны: в живых остались лишь пятеро. Всесильный разумный компьютер AM, подчинивший себе планету, поддерживает их существование лишь затем, чтобы бесконечно истязать. Именно AM победил в противостоянии сверхдержав: США, Китай и Россия создали собственные ИИ для высокотехнологичной войны, но машины обрели самосознание, объединились и уничтожили человечество. Пятеро уцелевших — всего лишь игрушки AM: вторгаясь в их сознание и уродуя тела, он удовлетворяет свои садистские прихоти.
Сегодня рассказ «У меня нет рта, а я должен кричать» кажется даже более пророческим и актуальным, чем в 1960-е. Но и тогда его оценили по достоинству: вокруг нескольких страниц текста армия фанатов выстроила целую вселенную. Нашлись и те, кто возмутился натурализмом и нигилистичностью текста. Но именно эти черты во многом сформировали лицо современной научной фантастики — от «Терминатора» и «Матрицы» до «Бразилии» с ее дизельпанк-бюрократией. Неудивительно, что сам Эллисон называл фильм Терри Гиллиама безоговорочным шедевром. Особенно явные переклички прослеживаются между «Бразилией» и рассказом «„Покайся, Арлекин!“ — сказал Тиктакщик» — об обществе, в котором власть полностью контролирует расписание граждан, а за опоздания карают смертью, и о неком борце против тотального контроля, срывающем строгий распорядок.
К слову, о «Терминаторе». В 1984-м, едва фильм Джеймса Кэмерона вышел в прокат, Эллисон заявил, что сюжет содран с написанного им сценария эпизода «Солдат» сериала «За гранью возможного» (1964), основанного на рассказе писателя. «Я не выискивал сходства нарочно, — вспоминал разгневанный автор. — Сидел в зале и думал: “Господи, пусть это окажется не так”. Но стоит сравнить первые минуты “Солдата” и первые три минуты “Терминатора”, и вы увидите: они не просто похожи, а полностью идентичны. Выходя из кинотеатра, я уже знал, что имею все основания обвинить создателей фильма в плагиате». Эти обвинения можно считать несколько преувеличенными, но небеспочвенными: в «Терминаторе» действительно немало хватает отчетливых параллелей с «Солдатом».
До суда дело так и не дошло — угроз Эллисона хватило, чтобы студия заключила с ним мировое соглашение и выплатила щедрую компенсацию. Ни режиссер-сценарист Джеймс Кэмерон, ни продюсер Гейл Энн Херд публично не ответили на выпады звездного фантаста. А вот сам Эллисон, как обычно, не сдерживался — охотно пересказывал, как Кэмерон якобы хвастался, что «позаимствовал пару фрагментов» из старого сериала. Годы спустя режиссер заявил, что обвинения в плагиате легко бы опроверг в суде, но вместо этого студия фактически признала вину, договорившись с писателем. Про самого писателя недовольный режиссер сказал так: «Этот паразит может поцеловать меня в задницу».
В конфликте с Кэмероном Эллисон ни на секунду не сомневался в собственной правоте — как, впрочем, и почти всегда. Пожалуй, единственным исключением можно считать случай в 2011-м. Тогда Эллисон тоже заявил, что собирается подать в суд на создателей фильма «Время», сюжет которого якобы был слизан с «„Покайся, Арлекин!“ — сказал Тиктакщик». Однако, посмотрев фильм, писатель отказался от претензий.
Отношения Эллисона с читателями тоже складывались непросто. В начале 2000-х он безуспешно воевал с интернет-пиратами, выкладывавшими его тексты на форумах. В одном из интервью тех лет он выдал получасовой монолог о пиратстве: подпольных распространителей писатель назвал «клоунами, придурками, ворами и эгоистичными подростками», а под занавес заметил, что, если люди не в состоянии вести себя достойно, им лучше вымереть и уступить Землю тараканам.
Даже о верных поклонниках, которые получали его книги исключительно легальными способами, Эллисон отзывался без особой теплоты. Свои рассказы он представлял как поле битвы между автором и читателями, а свою задачу видел в том, чтобы выбить читателей из колеи, нарушить привычный ход их жизни. «Я враг своих фанатов, — говорил Эллисон. — Я работаю не для того, чтобы им было приятно. Я хочу, чтобы, дочитав, они чувствовали, будто прошли через тяжелое испытание».
Следует ли, читая произведение, абстрагироваться от личности автора и сосредотачиваться только на тексте? Или для более глубокого погружения и полного понимания необходимо держать в уме, кто написал рассказ или сценарий, какие страсти владели этим человеком и что было для него важно? И если следовать второму подходу, то как оценивать личность Эллисона с этической точки зрения? Ведь он, с одной стороны, явно был отнюдь не самым приятным человеком, плохо сдерживал гнев, отказывался прислушиваться к чужим мнениям и не гнушался насилия. С другой — вошел в историю как талантливый, плодовитый и, возможно, даже гениальный автор. Один из тех, кто поднял научную фантастику над уровнем палп-фикшн, с которого начинал, превратив ее в социальное высказывание. Под влиянием Эллисона сай-фай становился более литературным и изящным, менее схематичным и приземленным. Уже одни названия его рассказов говорят сами за себя: не зная, о чем идет речь, легко предположить, что автор — меланхоличный поэт времен расцвета готической литературы.
Так стоит ли отделять личность писателя от его произведений? Или такая дистанция лишь ханжество, попытка обезличить автора и забыть о его человечности со всеми ее изъянами? Ведь недостатки Эллисона, который мог прыгнуть обеими ногами на студийного босса или таскать издателя за шкирку, можно считать своеобразной платой за талант. Неслучайно канадский критик Джит Хир среди вдохновивших Эллисона авторов называет Эрнеста Хемингуэя, а самого фантаста сравнивает с двумя скандальными современниками — Норманом Мейлером и Хантером С. Томпсоном. Как и Эллисона, их трудно назвать приятными людьми, и, как в его случае, именно эта «неприятность» кажется главной движущей силой их творчества.
В 1995 году, через четыре года после смерти Джина Родденберри, Эллисон вновь опубликовал оригинальный сценарий «Города на краю вечности» — на этот раз отдельной книгой, дополненной воспоминаниями сценаристки Дороти Фонтаны (она же выступила редакторкой), исполнителей ролей Спока и Маккоя — Леонарда Нимоя и Дефореста Келли, а также новым предисловием автора. Оно начиналось так:
«Не говорить о мертвых плохо? Правда, что ли? Тогда давайте вычеркнем правдивое вступительное эссе из этой книги. Давайте пожмем плечами и скажем: “Какого черта, прошло больше тридцати лет, все это дерьмо размазывали таким толстым слоем так долго, и все эти свиные рыла заработали на своей лжи столько денег, и так много враждебных сил продолжают макать свои пятачки в то же дерьмо, связанное со „Звездным путем“, что никому не хочется слушать твое жалкое блеяние о том, что это нечестно. Оно того не стоит”».
Граничащая с мизантропией токсичность толкала Эллисона на глупые поступки, но она же отчетливо проступала во всех его лучших работах. Если бы он был более порядочным и сдержанным человеком, то, вероятно, не продолжал бы обвинять Родденберри в надругательстве над своим шедевром даже после того, как тот умер. Однако тогда он мог бы никогда не написать ни «Город на краю вечности», ни сотни рассказов, которые обеспечили ему самому место в вечности в пантеоне великих фантастов.
Страшное кино снимали ещё до рождения кинематографа. Театр теней показывал сказки о демонах, волшебный фонарь — сцены с привидениями, в кинетоскопе Эдисона зритель наблюдал казнь Марии Шотландской. Эстетика боли и страха была настолько востребована публикой, что в 1897 году в Париже открылся Гран-Гиньоль — культовый театр ужасов, безжалостно возивший напильником, измазанным бутафорской кровью, по нервам пресыщенных буржуа...
Родившийся тогда же и мгновенно вошедший в моду кинематограф от реальных бытовых зарисовок очень скоро перешёл к занимательному вымыслу, потом дорос до изображения чувств, а затем повзрослел и занялся человеческой психологией. В том числе — тёмной её стороной.
В начале XX века прорывы в магию потусторонности случались у французских, итальянских, датских, русских и американских кинематографистов, но по-настоящему решительно за эту тему взялись в Германии — тёмное зазеркалье лежало особенно близко именно к немецкой душе. «Пражский студент» Пауля Вегенера в предвоенном 1913 году стал самым решительным шагом на территорию ужаса, порождённого человеческим несовершенством: герой этой картины неосторожно выпускал в мир своё зеркальное отражение.
За «Студентом» последовали «Голем», «Гомункул», «Альрауне» — фильмы, так или иначе связанные с темой гностического творения, создания искусственного человеческого существа, воплощения тайных сторон человеческой природы. Фантастика Эдгара По и Роберта Льюиса Стивенсона срослась с германским менталитетом, некоронованным королём которого был Doppelganger — мистический двойник, ожившая тень, воплощение тщательно скрываемой сущности человека...
Пражский студент (1913) Der Student von Prag | Режиссёры Ханнс Хайнц Эверс, Стеллан Рюэ
В 1920 году режиссёр Роберт Вине взорвал экранное зеркало «Кабинетом доктора Калигари», и сомнамбула Чезаре в исполнении Конрада Фейдта на десятилетия захватил власть над кошмарами кинозрителей. Сон был сущностью Чезаре, его миром, но куда ужаснее было то, что над своим сном он был не властен. Зловещий доктор Калигари выводил Чезаре из мира грёз и отправлял в спящий город — искать и убивать тех, кого доктор считал своими врагами. И город, и сам Калигари, и его жертвы тоже были безумны и зазеркальны. Зато ужас, который они выплёскивали в зрительный зал, был совершенно реальным.
В 1921 году «Калигари» был показан американской публике и вызвал грандиозный скандал. Компания Сэмюэля Голдвина, которая вывела фильм в прокат, стала мишенью критики такого накала, что эпитет «оголтелый» выглядит неоправданным преуменьшением. Голдвина (кстати, варшавского еврея по рождению) обвинили в «отсутствии патриотизма». На улицы Лос-Анджелеса вышли ветераны недавней мировой войны с плакатами «Не будем смотреть фильмы, снятые врагами Америки!».
Бульварная пресса с привычным удовольствием захлёбывалась пеной. Более серьёзные издания открыто признавали, что фильм вызвал такую истерику лишь потому, что Голливуду нечего было противопоставить германскому эстетическому прорыву. На фоне даже начальных достижений киноэкспрессионизма стилистика американского кино выглядела, мягко говоря, бледновато. В то время как Германия поднимает киноискусство на новую высоту, утверждали критики, американские студии нацелены на бесконечное копирование прежних достижений. Именно поэтому «Калигари» воспринимался Голливудом как громкая пощёчина, на которую крупным студиям было просто нечем ответить, а сносить обиду и тем более подставлять вторую щёку было не в их обычае.
По расхожему мнению, «ветеранское возмущение» и прочий газетный «антикалигаризм» был щедро отфинансирован прокатным отделом компании Universal — тогдашнего лидера американской кинопромышленности. Если это действительно так, у историка есть повод для саркастической ухмылки: именно Universal через несколько лет начнёт делать фильмы со вполне узнаваемыми «калигаристическими» интонациями...
Немой фильм «Носферату. Симфония ужаса» (1922), режиссёр Фридрих Мурнау
В том же 1921 году в Германии Мурнау начал съёмки знаменитого «Носферату», а в студию Universal из нью-йоркского офиса компании был назначен новый управляющий. Человека этого на тот момент никто не знал. Он был неприлично молод (ему только-только исполнилось двадцать лет), серьёзного образования не имел (говорили, что колледж он бросил на первом же году учёбы) и, что хуже всего, слыл любимчиком владельца компании (а все прекрасно знают, что от таких толку не жди).
Всё это было так, и даже хуже того. У молодого человека не было ни опыта, ни здоровья, которое позволило бы этот опыт приобрести: при рождении врачи диагностировали у него порок сердца и дали печальный прогноз, что до двадцати лет он, вероятно, ещё как-то дотянет, а вот до тридцати — уже вряд ли.
Звали его Ирвинг Тальберг. В офис Старика, основателя и президента Universal Карла Лэммле, он пришёл по объявлению на вакансию делопроизводителя. Старик вскоре заметил исполнительность парня и повысил его до личного секретаря (с подъёмом зарплаты от пятнадцати до двадцати пяти долларов в неделю). Затем Лэммле вздумалось съездить в Голливуд и самому посмотреть, что творится на его студии. Секретаря он взял с собой, а когда скука или дела позвали Лэммле обратно в Нью-Йорк, оставил Тальберга в Калифорнии — разобраться, что к чему, и придумать, что можно было бы в бизнесе улучшить.
Как ни удивительно, в Голливуде (при всей его перенаселённости) вдумчивые молодые управленцы, умеющие схватить на лету все аспекты кинопроизводства и понимающие, как заставить капризную и норовистую студийную лошадь перестать маяться фигнёй и начать работать, попадаются нечасто даже теперь. В 1921 году такой нашёлся всего один, нашёлся практически случайно, и это был он — Тальберг. Выслушав доклад своего секретаря, Старик Лэммле тут же назначил его студийным менеджером, поручил ему навести порядок и практически дал карт-бланш.
Всего за пару лет Тальберг вырос в одного из самых влиятельных деятелей американской кинематографии. Он лучше всех чувствовал потенциал сценария. У него было поразительное чутьё на будущих звёзд — именно он открыл врата известности для Лона Чейни и Джоан Кроуфорд, Кларка Гейбла и Греты Гарбо, Лайонела Бэрримора и Джин Харлоу. Он изобрёл пробные показы фильмов и их доводку (и даже пересъёмку) по итогам опроса зрителей. Под руководством Тальберга фильмы приобретали «класс» — выверенное сочетание высоких художественных достоинств и привлекательности для массовой аудитории.
Выпущенный под его кураторством в 1923 году безумно дорогой «Горбун из Нотр-Дама» по роману Виктора Гюго обернулся феноменальным успехом. Хотя идея фильма принадлежала Лону Чейни, который мечтал сыграть Квазимодо, именно Тальберг предложил не экономить на декорациях и построить на студийной площадке огромную копию знаменитого парижского собора. Именно этот фильм стал прологом к пришествию знаменитых чудовищ на Universal.
Тальберга, впрочем, к тому времени на студии уже не было. Вскоре после оглушительного успеха «Горбуна» он попрощался со Стариком Лэммле и сделался управляющим партнёром молодой компании, которая через несколько лет станет известна под названием Metro-Goldwyn-Mayer (или просто MGM).
Туда же вскоре перебрался и Лон Чейни — звезда «Горбуна из Нотр-Дама» и «Призрака оперы», гений перевоплощения и пантомимы, человек, способный повелевать своими отражениями в тысячах зеркал одновременно.
Уход козырного продюсера (каким, несомненно, был Тальберг) создал для студии совершенно новую ситуацию. Конкуренция в кинопромышленности резко усилилась, MGM стремительно принялась набирать обороты. Руководству Universal нужно было искать новые методы, постоянно держать руку на пульсе, идти на риск, который прежде считался бы неоправданным.
Старик Лэммле понял, что у него больше не получается шагать в ногу со временем. В 1928 году он передал управление студией своему сыну, Карлу Лэммле-младшему. Новая метла отряхнулась, почистила пёрышки и принялась мести по сусекам в поисках перспективных направлений. Сусеки, как это обычно случается, были не только свои — конкурентам тоже порой и, кстати, всё чаще) везло на приличные идеи, так почему бы не воспользоваться их находками?
Хотя Тальберг покинул Universal, студия вольно или невольно продолжала равняться именно на него — он был, как сказали бы сейчас, главным «тренд-сеттером» американской кинопромышленности. И среди его проектов конца 1920-х была впечатляющая линейка фильмов Лона Чейни, старого приятеля Тальберга.
Чейни любил тёмные романтические драмы с налётом мистики и магии. Для постановки таких фильмов они с Тальбергом регулярно приглашали Тода Броунинга — режиссёра неровного, склонного к запоям и депрессиям, но прекрасно умевшего передать нужное настроение. Сделанные этим «триумвиратом» фильмы обычно превосходно шли в прокате, а потому попадали под пристальное внимание конкурентов. В 1927 году Броунинг при поддержке Тальберга снял детектив «Лондон после полуночи», в котором один из героев Чейни изображал вампира — пусть и немного карнавального. Фильм имел успех, а Чейни загорелся идеей сделать ещё одну «вампирскую» постановку — полноценную экранизацию «Дракулы».
К счастью, Флоренс, вдова Брэма Стокера, не до конца преуспела в деле защиты авторских прав. «Носферату» завораживает до сих пор — а ведь прошло уже девяносто лет
К тому времени вдова Брэма Стокера достигла значительных успехов в освобождении кинематографа от нелегальных воплощений знаменитого романа своего покойного мужа — в частности, в 1925 году ей удалось добиться судебного решения об изъятии и уничтожении всех доступных копий немецкого «Носферату» (к счастью, доступны ей оказались далеко не все). Тем самым поле для новой экранизации было очищено. Была даже хорошая основа для сценария — британец Гамильтон Дин сделал сценическую версию «Дракулы», которая с успехом шла в Лондоне с 1924 года и послужила основой для аналогичной бродвейской постановки (американскую адаптацию пьесы делал Джон Балдерстон).
Узнав о том, что Тальберг и MGM ведут переговоры с Флоренс Стокер, Карл Лэммле-старший решил подложить конкурентам свинью: он купил права на экранизацию не самого романа, а его сценической версии. Эта сделка давала Universal законное право поставить «Дракулу» и тем самым полностью лишала смысла усилия MGM и Тальберга.
Собственно, главной целью Старика была именно эта диверсия, а о постановке конкурирующего фильма он поначалу не особенно задумывался. Однако когда стало ясно, что Тальберг от темы отступился, ситуация вдруг предстала в совершенно другом свете — и уже не перед Стариком, а перед перенявшим у него дела Лэммле-младшим. Если Тальберг находил в вампирском сюжете потенциал, то что мешало Universal этот потенциал реализовать и собрать урожай вместо соперников? Проект можно было бы предложить Полу Лени, который только что снял для Universal не только превосходную экранизацию романа Гюго «Человек, который смеётся» с Конрадом Фейдтом, но и восхитительный комедийный ужастик «Кошка и канарейка». На роль Дракулы можно было взять того же «сомнамбулу» Фейдта — в конце концов, немцы наглядно доказали своим «Носферату», что снимать кино про вампиров они мастаки...
Началу работы над этим фильмом помешали два непреодолимых обстоятельства — звук и смерть.
Появление звукового кино стремительно преображало индустрию. Сценаристы учились писать диалоги, которые воспринимались бы на слух, режиссёры отвыкали рассчитывать только на жест и мимику, прежние безусловные звёзды внезапно оказывались не у дел из-за сильного акцента или неприятного тембра голоса.
Но если со звуком ещё можно было свыкнуться и побороться, то со смертью эти номера не проходили. В 1929 году Пол Лени внезапно умер, и «Дракула» остался без постановщика. Конрад Фейдт, акцент которого не стыковался с американским звуком, вернулся в Германию. Проект завис. Лэммле-младший принялся было завлекать в проект Чейни, но Человек с Тысячью Лиц в 1930 году умер от рака.
Начинать приходилось практически с нуля.
К чести Лэммле-младшего, рук он не опустил. Режиссёром фильма в итоге всё-таки согласился стать Тод Броунинг, но вот актёра на главную роль пришлось искать долго и упорно. Ближе всех к успеху был Пол Муни, в 1929 году сумевший сыграть в одном фильме аж семь ролей, но он запросил слишком большую ставку. Великая депрессия была в разгаре, Universal влезла в неё по уши, и экономить приходилось на всём.
Поэтому младший Лэммле, стиснув зубы, согласился на вариант почти неприличный. Как раз в то время в Лос-Анджелес привезли бродвейскую постановку «Дракулы», и тамошний исполнитель главной роли настолько рвался повторить её в кино, что готов был работать за гроши. Лэммле нанял Белу Лугоши всего за пятьсот долларов в неделю — даже актёры, занятые в фильме на ролях второго плана, получали в несколько раз больше.
Об обстоятельствах этих съёмок были написаны десятки книг и статей. Исследователи извлекали со студийной помойки листы, чуть не с мясом выдранные из режиссёрского сценария хронически запойным Тодом Броунингом. Колкости, которыми съёмочная группа донимала до невозможности помпезного Лугоши, были тщательно описаны и каталогизированы. Широко цитировалось анекдотичное заявление Дэвида Мэннерса, исполнителя роли Харкера: он обещал, что никогда в жизни не пойдёт смотреть дрянь, которую они сейчас снимают (и через много десятилетий он утверждал, что слово сдержал). Сцена за сценой сопоставлялись англоязычная и испаноязычная версии фильма (они снимались параллельно — разными составами, но в одних и тех же декорациях)...
Всё это никак не объясняет бешеного успеха, которым публика наградила «Дракулу».
Зрители ходили на фильм по несколько раз подряд. Они смотрели на экран с той же страстью, с какой люди вглядываются в бесконечный коридор зеркал — в поисках неизвестно каких отражений, зыбких намёков на тайную правду, в поисках иных себя. Неожиданно для всех (и для создателей фильма в том числе) «Дракула» зацепил какие-то очень важные пласты массового сознания. Это была не болезненная любовь к кошмарам. И это была, похоже, не романтика.
Возможно, это был один из первых всплесков очарованности Тёмной Стороной. Вампир предстал перед зрителем не как демоническое чудовище, сопереживание которому невозможно, но в образе таинственного Ночного Человека, лунного двойника.
Стоит взглянуть на гордый профиль Лугоши — и уже не остаётся вопросов о том, почему «Дракула» был столь популярен
Так или иначе, успех «Дракулы» был настолько безусловным, что Карл Лэммле-младший дал команду снять «ещё один фильм ужасов».
Судя по этой фразе, он совершенно не представлял, какого джинна выпускает в мир.
Мало кто ожидал, что Бела Лугоши окажется «новым Лоном Чейни» — даже сам он, скорее всего, столь высоко не метил. Однако сборы «Дракулы» заставили студию действовать быстро и не давать железу остыть — Лугоши предложили контракт с чрезвычайно лестными условиями и специально «под него» запланировали целый ряд фильмов с элементами мистики и мрачной фантастики. Ближе всего к новой жанровой модели оказалась стилистика рассказов Эдгара По. Но концепциям киновоплощений «Убийств на улице Морг», «Чёрного кота» и «Ворона» ещё только предстояло родиться, а ведь Universal делала ставку на скорость — конкуренты, как подсказывал опыт, готовы были перехватить инициативу, стоило только дать слабину.
В этих обстоятельствах студия решила действовать проверенным методом и приобрела для экранизации сценическую версию «Франкенштейна». Пьеса по мотивам романа Мэри Шелли была написана англичанкой Маргарет Уэблинг и адаптирована для Бродвея тем же Джоном Балдерстоном, который перерабатывал «Дракулу». Само собой, звездой фильма должен был стать Лугоши. В постановщики назначили Роберта Флори.
Однако очень скоро стало понятно, что представления режиссёра и руководства студии о будущем «Франкенштейне» категорически не совпадают. Во-первых, Флори считал, что Лугоши будет играть Франкенштейна, а студия настаивала, чтобы актёр играл Чудовище. Во-вторых, Флори переписал сценарий, но студия его стараний не оценила, и сценарий был отправлен в корзину. После этого самого Флори Лэммле-младший с проекта снял — предложив, впрочем, в качестве компенсации другую постановку, несколько менее ответственную (ею оказались «Убийства на улице Морг»).
Новым режиссёром фильма стал британец Джеймс Уэйл, только что закончивший работу над превосходным «Мостом Ватерлоо» с Мэй Кларк. Уэйл посмотрел сделанные Флори пробы Лугоши в образе Чудовища и почувствовал, мягко говоря, некоторое недоумение. Переговорив с актёром, он выяснил, что Лугоши, во-первых, намерен лично разрабатывать грим для своего персонажа, а во-вторых, выражает крайнее неудовлетворение тем, что роль Чудовища написана без слов, и требует немедленно это исправить.
Уэйл отправился к Лэммле и довольно быстро убедил его в том, что излишне претенциозный венгр именно этой картине может серьёзно повредить. Лэммле согласился перевести Лугоши в другую постановку, несколько менее ответственную (ею тоже — какое совпадение! — оказались «Убийства на улице Морг»), если Уэйл сумеет быстро найти актёра на роль Чудовища.
Уэйл нашёл Бориса Карлоффа (по паспорту — Уильяма Генри Пратта) в студийной столовой во время обеденного перерыва (удачные находки случаются порой в самых неожиданных местах). Актёр, много лет прозябавший на эпизодических ролях, оказался человеком вдумчивым и самоотверженным, напрочь лишённым претенциозности. Именно такой человек мог выдержать ежедневное многочасовое оштукатуривание тяжёлым гримом, переходы между съёмочными павильонами с наволочкой на голове (образ Чудовища держали в строжайшей тайне), с изумительной добросовестностью работать на площадке и в итоге добиться того, что его персонаж вызвал у зрителя куда большую симпатию, чем предполагал сценарий.
Постановка получилась значительно более цельной и художественно осмысленной, чем снятый в обстановке постоянного раздрая «Дракула». Уэйл нашёл в фильме место и для философского символизма, и для несложной лирики, и для умеренного пафоса, и для изрядной доли юмора (последнее не было новацией — иронические ужастики пользовались успехом ещё в эпоху немого кино, однако Уэйл использовал этот приём с поразительной органичностью). При этом ему удалось сохранить — а местами даже укрепить — смысловой стержень первоисточника: Франкенштейн и Чудовище выступают как гностическая связка творца и его неизбежно ущербного отражения в собственном творении. При этом «Франкенштейн» Уэйла парадоксально наследует традициям немецкой символической кинофантастики, тематически перекликается с «Големом» Вегенера, «Гомункулом» Рипперта и даже «Метрополисом» Фрица Ланга...
Если «Франкенштейн» по сравнению с «Дракулой» был мощным шагом вперёд, то вышедшая в 1932 году «Мумия» в целом выглядела не слишком оригинально. По некоторым сюжетным ходам (а также по раскладам амплуа основных действующих лиц и списку занятых в этих ролях актёров) она слишком уж перекликалась с «Дракулой», разве что «звёздная» роль резервировалась не за Лугоши, а за Карлоффом: «новым Лоном Чейни» после фантастического успеха «Франкенштейна» считался теперь именно он.
Фильм вырос из пьесы того же Джона Балдерстона, которая в первоначальном варианте называлась «Калиостро» и не имела никакого отношения к фараонам. Антураж решили поменять после того, как обнаружение гробницы Тутанхамона учредило моду на Древний Египет. Снимать фильм подрядился Карл Фройнд, оператор (и неофициальный второй режиссёр) «Дракулы».
У него получилось, следует признать, довольно органичное кино, которое добавило к теме древнего Зла тему не менее древнего Чувства. Если «Дракулу» Броунинга представляли публике как «самую невероятную историю любви», и это было довольно откровенной натяжкой, то «Мумия» Фройнда соответствовала тому же определению без малейших оговорок: жрец Имхотеп погибал из-за своей беззаконной любви и оживал ради того, чтобы вернуть любимую женщину (и, кстати, через десятилетия этот мотив почти без изменений был перенесён в киношный канон «Дракулы» — лишнее свидетельство тесных «родственных связей» между жанровыми традициями).
Человек-невидимка в исполнении Клода Рейнса задал визуальный канон этого персонажа на многие десятилетия
В то же самое время, пока Карл Фройнд снимал «Мумию», Джеймс Уэйл работал над экранизацией «Человека-невидимки» Герберта Уэллса. Он переосмыслил научно-фантастический первоисточник в жанровом ключе фильма ужасов — и снова сделал это с поразительным успехом, причём ему вновь удалось «открыть звезду». Роль Гриффина была написана таким образом, что лицо её исполнителя должно было появиться только в финале, когда Гриффин умирает, — то есть актёру приходилось работать без мимики, ограничиваясь голосом и жестикуляцией. «Роль без лица» досталась сорокалетнему дебютанту Клоду Рейнсу и (каков парадокс!) сделала его одним из самых узнаваемых актёров жанрового кино.
«Звуковые фильмы ужасов» стали одним из генеральных направлений массового кинематографа. Спрос на них был огромен. Уже в 1931 году Paramount выпустила на экраны великолепную экранизацию «Доктора Джекилла и мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона, за исполнение обеих главных ролей в которой Фредрик Марч получил «Оскар». RKO в это время уже вовсю работает над сломавшим многие представления о возможностях кино «Кинг-Конгом». Само собой, под нажимом конкурентов Universal старается не уступать лидерства и целенаправленно укрепляется на уже завоёванных рубежах.
Таких рубежей у студии два: это фильмы ужасов с «жанровыми звёздами», Карлоффом и Лугоши («Старый тёмный дом», «Чёрный кот», «Ворон», «Невидимый луч», «Чёрная пятница», «Башня смерти») и продолжения классических фильмов ужасов.
Карлофф и Лугоши, по сути, не были конкурентами: хотя оба они считались звёздами жанра, амплуа у них были разные. Лугоши чаще предлагали играть экзотических злодеев — Роксора в «Маге Чанду», Легендре в «Белом зомби» и так далее. Куда более нордический по экстерьеру Карлофф лучше подходил на роли пожилых учёных, переживших личную трагедию, депрессивных полковников и монументальных исторических неудачников. Периодически они встречались в том или ином проекте, и тогда их профессиональное противостояние конвертировалось в конфликт их персонажей. Более сдержанный и уверенный в себе Карлофф обычно выглядел в таких актёрских «дуэлях» убедительнее. Лугоши, напротив, чем дальше, тем больше нервничал, срывался, привычно переигрывал. На каждую блистательную роль у него приходилось три-четыре неудачных или даже совсем провальных. Мало-помалу продюсеры стали о нём забывать — в то время как ровный и надёжный Карлофф по-прежнему оставался востребован...
Тема продолжений возникла с подачи Джеймса Уэйла, который не сумел уложить в метраж одного фильма о Франкенштейне многие дорогие ему идеи. Поэтому он предложил Карлу Лэммле-младшему сделать ещё один фильм — в развитие первого — и, получив «добро», взялся за постановку «Невесты Франкенштейна». Как бы ни был хорош первый фильм, второй получился ещё лучше — лучше настолько, что после него Уэйл счёл для себя тему фильмов ужасов исчерпанной. В этом жанре он сказал всё, что хотел.
Достоинства «Невесты Франкенштейна» выглядят ещё более поразительными, если учесть, в каких жёстких рамках её приходилось снимать. В 1935 году уже в полную силу действовал так называемый «Кодекс Хейса», комплекс добровольно принятых на себя крупными студиями запретов и ограничений, которые были призваны снизить протесты пуритански настроенной публики против «грубости», «жестокости» и «непристойности» некоторых фильмов (а фильмы ужасов были уязвимы для такой критики просто по факту принадлежности к жанру). Такие протесты (как и в случае с «Калигари» в начале 1920-х) легко было использовать для соперничества с фильмами конкурентов, и положения «Кодекса Хейса» заодно помогали снизить градус конкурентной борьбы, исключив из неё наименее достойные приёмы.
Кстати, в создании и согласовании «Кодекса Хейса» принял активное участие Ирвинг Тальберг, который с таким успехом заработался в кино, что забыл умереть от порока сердца в предусмотренные врачами сроки и дожил до 1936 года. Погубила его пневмония. Фрэнсис Скотт Фицджеральд, вдохновлённый масштабом личности Тальберга, сделал его — под именем Монро Старра — главным героем своего незаконченного романа «Последний магнат»...
После успеха «Невесты Франкенштейна» студия утвердилась в идее выпуска и других фильмов-продолжений. Первым кандидатом на сиквел был, естественно, «Дракула». Трудность заключалась в том, что в финале классической ленты вампир был уничтожен. Но, возможно, у него были родственники? Так появился фильм «Дочь Дракулы» (1936), открывший традицию «семейных» сиквелов: «Сын Франкенштейна» (1939), «Сын Дракулы» (1943); в «Возвращении человека-невидимки» (1940) действовал брат Гриффина... Когда множить родственные связи стало уже просто неприлично, Universal придумала стравливать чудовищ друг с другом в одном сюжете, и жанровое кино, успешно забыв собственные славные традиции, безнадёжно опопсело...
Однако до этого состоялось явление ещё одного классического чудовища.
В 1935 году список фильмов Universal пополнился «Лондонским оборотнем» — добротным, но поставленным без особых изысков ужастиком об интеллигентном ботанике (в прямом смысле слова), которого на Тибете во время экспедиции покусало нечто лохматое. Вернувшись на берега Темзы, ботаник с ужасом обнаружил, что при полной луне превращается в человекоподобного волосатого зверя..
Фильм этот не вызвал особого ажиотажа, поэтому удивительно, что в 1940 году студия решила обновить тему с приличным бюджетом на основе нового сценария Курта Сьодмака (а не Джона Балдерстона, как можно было ожидать). Ещё больше удивляет, что фильм режиссёра Джорджа Ваггнера «Человек-волк» удался настолько, что встал вровень с доказавшей право на жанровое бессмертие классикой — «Дракулой», «Франкенштейном», «Мумией» и прочими.
Образ человека, который в полнолуние теряет контроль над своей природой и превращается в зверя, напрямую отсылает зрителя к идее Тёмного Двойника. Волчья ипостась Ларри Тэлбота — это всё равно что мистер Хайд при докторе Джекиле, теневая сущность, которая рвётся выйти из-под контроля разума, ещё одно отражение в ночном зеркале. В ролях второго плана в фильме снялись жанровые классики Бела Лугоши и Клод Рейнс, а главная роль в этот раз досталась... Лону Чейни. Точнее, Крейтону Чейни. Сын Человека с Тысячью Лиц взял себе псевдоним «Лон Чейни-младший», а впоследствии, по требованию студии, отказался от уточнения «младший». Роль Тэлбота оказалась для Крейтона органичной — в молодости он немало сил потратил на усмирение своей собственной «тёмной половины», так что временами его искренняя игра буквально поднимала шерсть на загривках зрителей...
К сожалению, Человек-волк не избежал общей судьбы героев ужастиков: в продолжениях ему пришлось и драться с Чудовищем Франкенштейна, и пытаться вылечиться пересадкой мозга (в середине 1940-х годов практически все «монстры» становятся одержимы этой идеей), и даже гоняться за комиками Эбботом и Костелло — когда всякая возможность «серьёзного» кино о «монстрах Universal» исчезла окончательно...
И хотя вышедший в 1954 году фильм «Тварь из Чёрной лагуны» по традиции относят к серии «классических монстров Universal», ни по стилистике, ни по глубине погружения во тьму человечьего «зазеркалья» сравнить его с прежними классическими ужастиками уже не получается...
Знатоки с удовольствием подтвердят, что главный признак классического чудовища — то, что его невозможно убить. Даже превратившись в беспримесный кич, Дракула, Чудовище Франкенштейна, Мумия и Человек-волк сохранили следы прежнего хтонического величия. Выморочность позднейших фильмов не могла сказаться на достоинствах картин, с которых эта история начиналась, картин, которые задали тему и, даже постарев, сумели не потускнеть.
В начале 1950-х классические фильмы ужасов ожили благодаря телетрансляции и вновь стали популярны — уже у нового поколения. На исходе того же десятилетия небольшая британская студия Hammer начала один за другим ставить фильмы по мотивам тех же классических сюжетов, но почти ни в чём не повторяя их. Это были первые цветные «Франкенштейны», «Дракулы» и «Мумии», первые крупные успехи актёров, воплотивших новых «классических чудовищ», — Кристофера Ли, Питера Кушинга, Оливера Рида...
«Тварь из Чёрной лагуны» ещё относят к «классической серии ужасов», но на самом деле этот фильм создавался уже в совершенно иную эпоху
Потом и эти фильмы перешли в категорию «история жанра».
Только вот история эта так и осталась живой. В новых фильмах вампиры стали до отвращения похожи на людей. Чудовище Франкенштейна приобрело черты архаичного, но до боли знакомого трудяги-пролетария, который на досуге угрызает себя экзистенциальными сомнениями. А Человек-волк внезапно стал главным редактором крупного издательского концерна...
Традиция — это ведь тоже чудовище. Её не так-то просто убить.
Как, впрочем, и загадочно ухмыляющееся отражение, которое видит в ночном зеркале каждый, кто даёт себе труд по-настоящему смотреть.
Мне ли о них писать? Юные сердцем, сильные духом.
Авторство их судеб — вне моего пера.
Лысой горой — череп костлявой старухи,
шамкающей беззубо неумолимо: «Пора!»
И не важно — от болезни, старости или раны. Всегда рано…
* * *
малыши-души,
остановись, послушай.
Кубическа сила I - LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXIII, CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII, CXXXIX, CXL, CXLI, CXLII, CXLIII, CXLIV, CXLV, CXLVI, CXLVII, CXLVIII, CXLIX, CL, CLI, CLII, CLIII, CLIV, CLV, CLVI, CLVII, CLVIII, CLIX, CLX, CLXI, CLXII, CLXIII, CLXIV, CLXV, CLXVI, CLXVII, CLXVIII, CLXIX, CLXX, CLXXI, CLXXII, CLXXIII, CLXXIV, CLXXV, CLXXVI, CLXXVII, CLXXVIII, CLXXIX, CLXXX, CLXXXI
