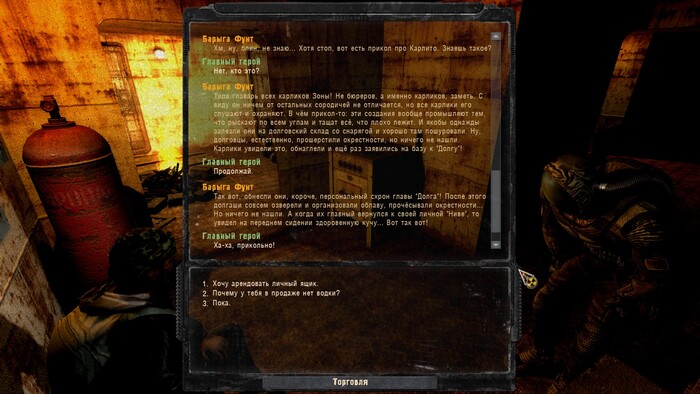Красное платье
Эту историю Тихий рассказывал, глядя в сторону Саркофага.
Мы сидели на холме в трёх километрах от ЧАЭС — ближе он не подходил. Никогда. Говорил, что там слишком много голосов. Слишком много памяти. Слишком много боли.
Но в тот вечер он смотрел туда — на тёмную громаду укрытия, на ржавые конструкции, на мёртвые трубы — и говорил.
Тихо.
Почти нежно.
***
Её видели впервые в девяносто первом.
Пятеро ликвидаторов — из тех, что остались, что продолжали работать, что не могли уйти — сидели в бытовке после смены. Пили чай, травили байки, старались не думать о рентгенах, которые уже сидели в их костях.
И один — молодой, глазастый — посмотрел в окно.
— Мужики, — сказал он. — А что это там?
Они посмотрели.
На крыше Саркофага — там, где бетон смешался с оплавленным металлом, где фонило так, что счётчики зашкаливали — стояла женщина.
В красном платье.
***
Расстояние было большое — метров пятьсот, не меньше. Но красное пятно на сером фоне было видно отчётливо. И оно двигалось.
Женщина шла по крыше. Медленно, спокойно, будто прогуливалась по набережной. Ветер шевелил подол платья — алый, яркий, невозможный в этом мёртвом месте.
— Там же... — начал кто-то.
— Пятнадцать тысяч рентген, — закончил другой. — Минимум.
— Она же сдохнет.
— Она уже должна была сдохнуть. Десять раз.
Они смотрели.
Женщина дошла до края крыши. Остановилась. Повернулась — как будто посмотрела на них, хотя с такого расстояния это было невозможно.
И исчезла.
Не ушла, не спряталась — именно исчезла. Была — и нет.
***
На следующий день послали людей — проверить.
Крыша была пуста. Никаких следов. Никаких... ничего.
Только на бетоне, там, где она стояла — красное пятно. Небольшое, с ладонь размером. Похожее на краску.
Взяли пробу. Отправили в лабораторию.
Результат пришёл через неделю.
Кровь.
Человеческая кровь.
Группа — вторая положительная. Пол — женский. Возраст донора — предположительно, от двадцати до тридцати лет.
И ещё одна странность.
Кровь была свежей.
Совсем свежей. Как будто пролилась за минуту до того, как взяли образец.
***
После этого её видели регулярно.
Не часто — раз в несколько месяцев. Иногда — раз в год. Но видели.
Всегда на крыше Саркофага. Всегда в красном платье. Всегда — одна.
Она шла. Иногда — стояла неподвижно. Иногда — поднимала руку, будто кому-то махала. Иногда — садилась на край и сидела часами, болтая ногами над пропастью.
Как будто ждала.
***
Военные пытались поймать её. Дважды.
Первый раз — в девяносто четвёртом. Отправили группу на вертолёте. Она стояла на крыше, смотрела, как они приближаются. Не пряталась, не убегала.
Вертолёт завис над ней. Солдаты готовились к высадке.
И вертолёт отказал.
Не двигатель — всё. Электроника, гидравлика, связь. Всё разом, как будто кто-то выдернул вилку из розетки.
Они падали три секунды.
Потом всё заработало снова.
Пилот каким-то чудом успел выровнять машину. Они ушли. Женщины на крыше уже не было.
Второй раз — в девяносто восьмом. Снайпер. Думали — если это диверсант, если это провокация — снять издалека.
Снайпер занял позицию. Дождался. Прицелился.
Выстрелил.
Пуля прошла сквозь неё.
Он видел это в прицел — как тело дрогнуло от попадания, как платье всколыхнулось, как... ничего не произошло. Она даже не обернулась.
Просто стояла.
А потом медленно повернула голову — к нему, через километр расстояния — и улыбнулась.
Снайпер бросил винтовку и бежал.
Три дня не мог говорить. Потом — уволился. Уехал. Исчез.
Говорят, спился где-то в провинции. Говорят, до самой смерти кричал по ночам.
Про улыбку.
***
После второго выброса она появлялась чаще.
Сталкеры видели её постоянно. Кто-то — издалека, в бинокль. Кто-то — ближе, на подходах к ЧАЭС. Кто-то — совсем рядом.
Те, кто видел рядом, редко возвращались.
А если возвращались — молчали.
Или рассказывали такое, чему не хотелось верить.
***
Бурый был из тех, кто вернулся.
Он пришёл в бар на Янтаре — грязный, ободранный, с пустыми глазами. Сел в угол. Заказал водки. Пил молча, пока кто-то не спросил — откуда.
— От Саркофага, — сказал Бурый.
Вокруг притихли.
— Видел её?
— Видел.
— И что?
Бурый долго молчал. Потом начал рассказывать.
***
Он шёл к ЧАЭС за артефактом.
Не к самому Саркофагу — это самоубийство. К периметру. Там, говорили, после выбросов появляется «слеза» — редкий, дорогой артефакт, за который барыги платили состояние.
Он нашёл «слезу».
А потом увидел её.
Она стояла в ста метрах — между ним и выходом. Красное платье на фоне ржавых труб. Чёрные волосы, длинные, до пояса. Лицо...
— Лицо я не запомнил, — сказал Бурый. — Смотрел на неё — и не мог запомнить. Как будто оно менялось. Или как будто его не было совсем.
— Что она делала?
— Стояла. Смотрела. На меня.
— И ты?
— Я... — Бурый замолчал. Отхлебнул водки. — Я не мог двигаться. Ноги не слушались. Просто стоял и смотрел на неё.
— А потом?
— Потом она подошла.
***
Она шла медленно. Беззвучно. Платье не касалось земли — парило, как будто она летела на сантиметр над поверхностью.
Бурый стоял и смотрел. Не мог закричать, не мог убежать. Только смотрел.
Она остановилась в шаге от него.
И заговорила.
— Голос был... — Бурый потёр лицо. — Обычный. Женский. Молодой. Красивый даже. Но как будто... издалека. Как по плохой связи, с помехами.
— Что она сказала?
— Спросила — зачем я пришёл.
— И ты?
— Сказал — за артефактом.
— А она?
Бурый допил водку. Налил ещё. Выпил.
— Она сказала — забирай. И уходи. И не возвращайся.
— И всё?
— Нет. — Он помолчал. — Она сказала ещё кое-что. Про это место. Про себя.
— Что?
— Сказала — это мой дом. Я охраняю его. Охраняю тех, кто здесь спит.
— Кто спит?
— Не знаю. Не спросил. Не мог. Она... — Бурый закрыл глаза. — Она коснулась моего лица. Рукой. Холодной, как лёд. И сказала — запомни. Расскажи другим. Пусть знают. Пусть не приходят.
— Почему?
— Потому что здесь — не место для живых. Здесь — место для тех, кто не смог уйти.
***
Бурый уехал из Зоны на следующий день.
Насовсем.
Больше его никто не видел.
А «слезу» он оставил в баре — на столе, где сидел. Не взял. Не продал.
Бармен потом говорил, что артефакт был странный. Не светился, как обычные. Не фонил. Просто лежал — и был холодным.
Очень холодным.
Как будто его держала мёртвая рука.
***
— Кто она? — спросил я Тихого.
Он долго молчал. Смотрел на Саркофаг — чёрный силуэт на фоне закатного неба.
— Я спрашивал, — сказал он наконец. — Искал. Слушал.
— И что узнал?
— Историю. Одну из многих. Может, правдивую. Может, нет.
— Расскажи.
***
Её звали Аня.
Ей было двадцать три года. Она работала на станции — не в реакторном зале, в административном корпусе. Секретарь, машинистка, мелкая должность.
Она была влюблена.
В инженера. Молодого, талантливого, красивого. Они встречались год.
Двадцать шестого апреля, в ночь аварии, он был на смене.
Он не вернулся.
***
Аня узнала утром.
Она была дома — не в Припяти, в пригороде, навещала родителей. Услышала по радио. Не поверила. Бросилась к станции.
Её не пустили.
Оцепление, солдаты, автоматы. Она кричала, плакала, умоляла. Бесполезно.
Три дня она ждала у периметра. Три дня искала способ пробраться внутрь. Три дня надеялась, что он жив, что он в больнице, что он найдётся.
Он не нашёлся.
Позже она узнала, что его тело осталось в реакторном зале. Там, где температура была тысячи градусов, где всё плавилось и горело. Его не смогли достать. Его залили бетоном вместе с остальными.
Он стал частью Саркофага.
***
Аня сошла с ума.
Не сразу — постепенно. Её эвакуировали вместе с остальными. Увезли в Киев. Дали жильё, работу, новую жизнь.
Но она не жила.
Соседи говорили, что она часами сидела у окна и смотрела на север. Что выходила только ночью. Что разговаривала сама с собой — с ним. Звала его. Обещала прийти.
А потом, через три года, она исчезла.
***
Её нашли через неделю.
На крыше Саркофага.
Как она туда попала — никто не знал. Охрана клялась, что периметр не нарушался. Камеры ничего не зафиксировали. Датчики не сработали.
Но она была там.
В красном платье. В том самом, что надела на их последнее свидание.
Мёртвая.
Но странно мёртвая. Лучевой болезни не было. Ожогов не было. Травм не было.
Она просто лежала на бетоне, раскинув руки, с улыбкой на лице.
Как будто обнимала кого-то.
***
Тело забрали. Похоронили.
А через месяц её увидели снова.
На той же крыше. В том же платье.
Живую.
Или не живую — но двигающуюся. Ходящую. Смотрящую.
***
— Она осталась с ним, — сказал Тихий. — Нашла способ. Любовь — или безумие — или и то, и другое — позволили ей остаться.
— Призрак?
— Не знаю. Может, призрак. Может, что-то другое. Зона создаёт странные вещи. Может, она просто... не отпустила Аню. Оставила её — как оставляет артефакты, как оставляет аномалии.
— Как память?
— Как боль. — Тихий помолчал. — Память — это про тех, кто вспоминает. А боль — про тех, кто не может забыть.
***
— А те, кого она охраняет? — спросил я. — Бурый говорил — она сказала «тех, кто здесь спит».
Тихий кивнул.
— Тридцать один человек погиб в первые дни. Операторы, пожарные, инженеры. Многие — остались там. Под бетоном. Под Саркофагом.
— Она охраняет их?
— Может быть. Или они охраняют её. Может, они все там — вместе. Связаны чем-то, что сильнее смерти.
Он помолчал.
— Любовью. Долгом. Виной. Не знаю. Но что-то держит их вместе. И она — их голос. Их лицо. Их предупреждение живым.
— Предупреждение о чём?
— Не приходите. Не тревожьте. Дайте нам покой.
***
Солнце село.
Саркофаг стал чёрным — глыба тьмы на фоне тёмно-синего неба.
И я увидел её.
Красное пятно на вершине. Маленькое, далёкое. Неподвижное.
— Тихий... — начал я.
— Вижу.
Она стояла там — три километра от нас, но я чувствовал её взгляд. Чувствовал холод, который шёл от неё, пробивался сквозь расстояние, касался кожи.
А потом она подняла руку.
И помахала.
***
Мы уходили молча.
Быстро. Не оборачиваясь.
Только у самого поворота я не выдержал — обернулся.
Крыша Саркофага была пуста.
Но на ветру — откуда ветер? ночь была тихая — развевалось что-то красное. Лента? Лоскут ткани? Не разобрать.
— Не смотри, — сказал Тихий. — Она не любит, когда смотрят слишком долго.
— Почему?
— Потому что начинаешь видеть то, что она хочет показать. А это... — он помолчал, — ...это невыносимо.
— Что она показывает?
Тихий не ответил.
Но я понял.
Любовь.
Она показывает любовь.
Ту, что сильнее смерти. Ту, что сильнее радиации, сильнее времени, сильнее самой Зоны.
Любовь, которая не отпускает.
Никогда.
***
Женщину в красном видят до сих пор.
Каждый месяц — кто-то из сталкеров замечает её на крыше. Стоит. Ходит. Смотрит.
Ждёт.
Никто не знает — чего.
Может, ждёт, когда Саркофаг рухнет, и она сможет спуститься вниз, к нему, к тому, кого любила.
Может, ждёт, когда последний человек уйдёт из Зоны, и она останется одна — со своими мёртвыми, со своей болью, со своей бесконечной любовью.
А может — просто ждёт.
Потому что это всё, что ей осталось.
***
Если будешь рядом с Саркофагом — не смотри вверх.
Не ищи красное пятно на сером бетоне.
Не пытайся разглядеть лицо, которого нет.
Потому что если она посмотрит на тебя — ты почувствуешь.
Всё, что она чувствует.
Всю тоску. Всю боль. Всю любовь.
И это останется с тобой.
Навсегда.
***
Красное платье развевается на ветру.
Она стоит на крыше.
Она ждёт.
И будет ждать.
Пока солнце не погаснет.
Пока звёзды не упадут.
Пока любовь не закончится.
А любовь —
любовь не заканчивается никогда.
Автор: Тихий.
Найдено в сети.