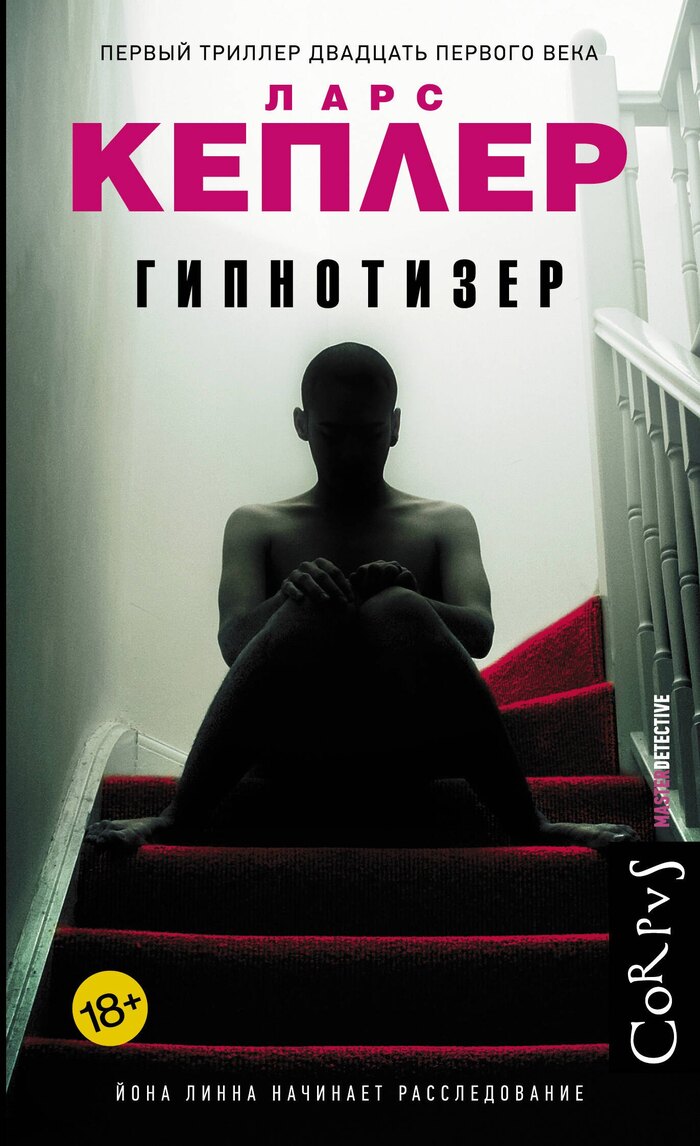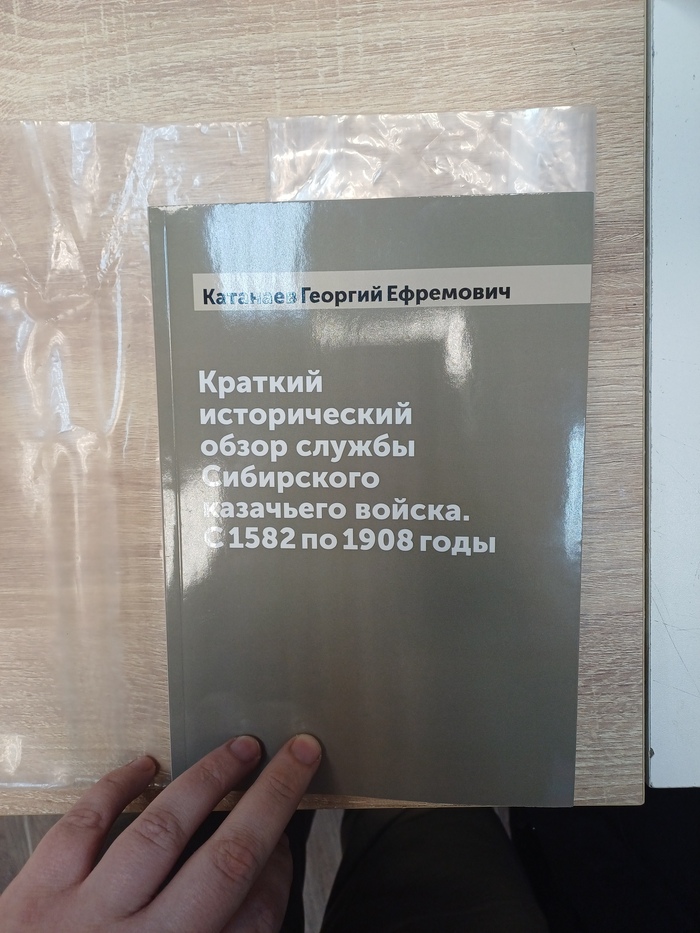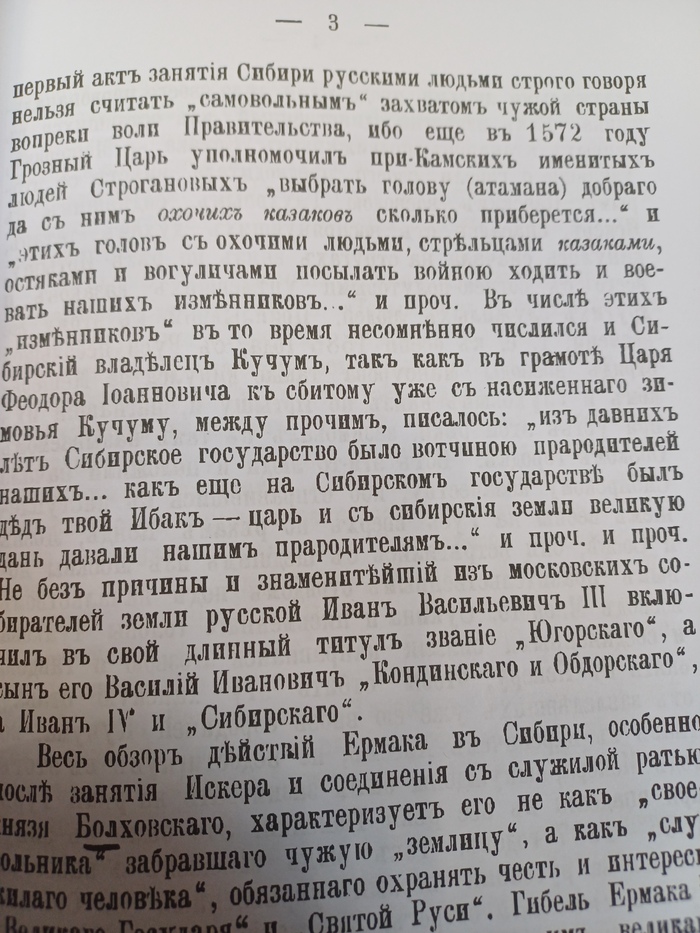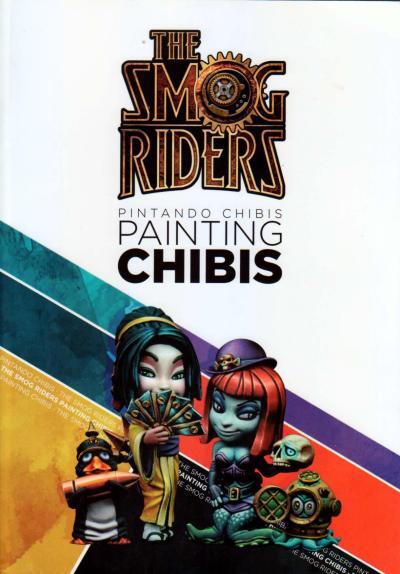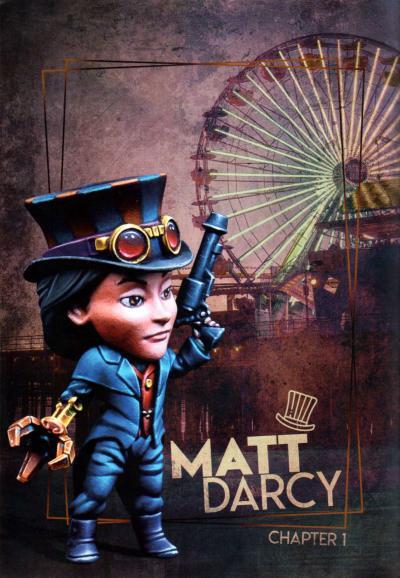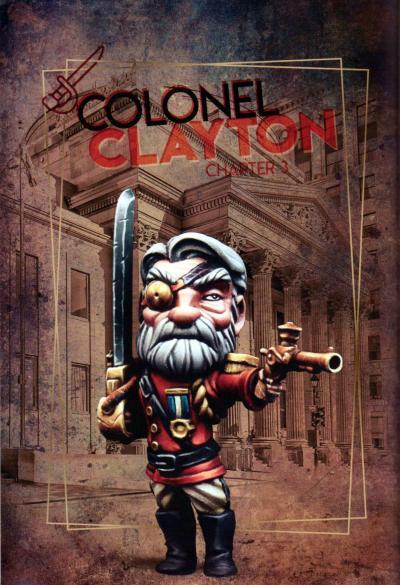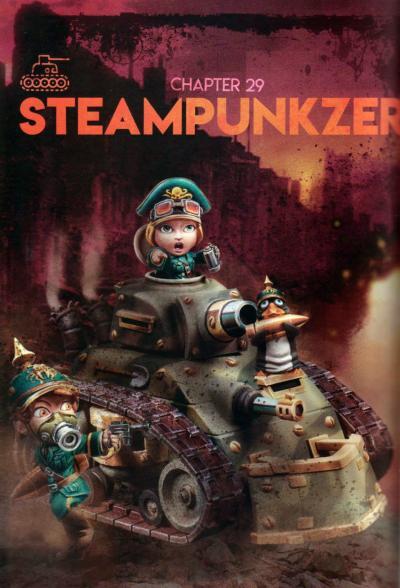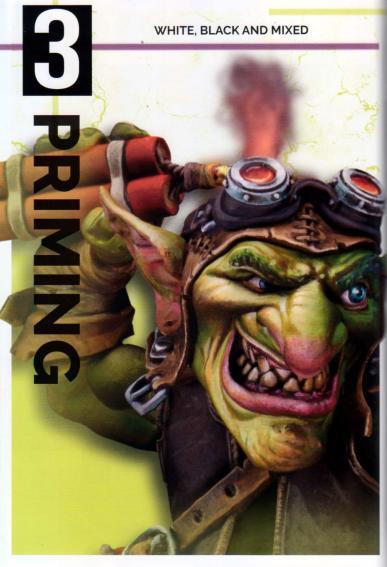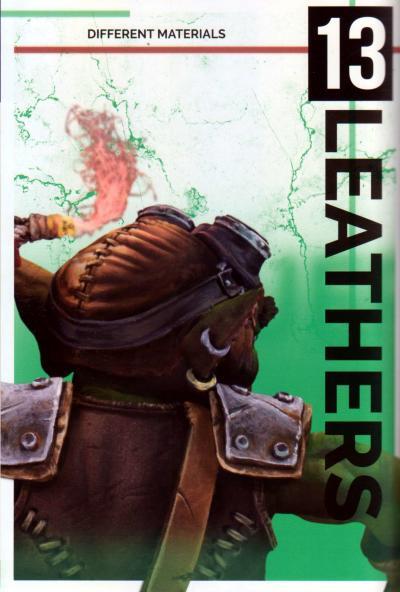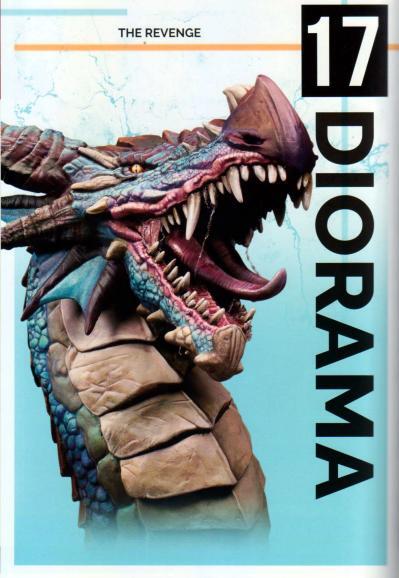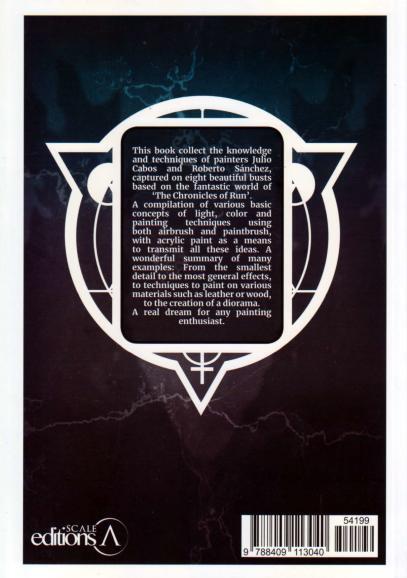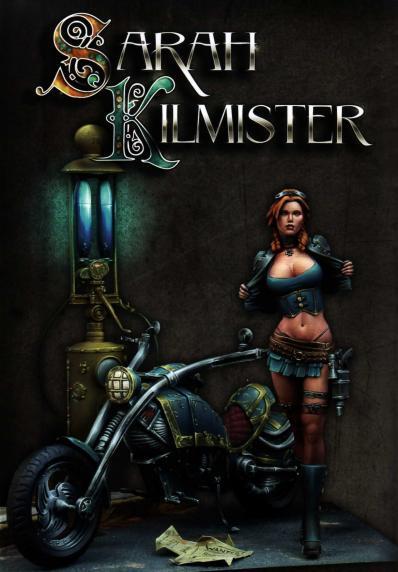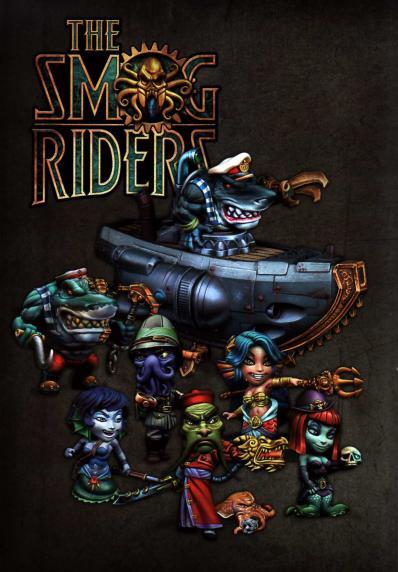Мероприятие близилось к завершению. В уголке импровизированного банкетного зала, склонив голову на тощую вогнутую грудь, мирно посапывала уборщица баба Нюра — единственная женщина в сплочённом мужском коллективе автопарка. На застеленном клеёнкой длинном столе, сервированном разномастной, всё больше алюминиевой, посудой, радовал глаз натюрморт из остатков варёной колбасы, картошки в мундире и других труднораспознаваемых объедков. Из живописных деталей — разбежавшиеся по клеёнке надкушенные солёные огурцы, крапинки хлебных крошек и рассыпанный пудрой перец. В центре гвоздь программы — пятилитровый бутыль с остатками разведённого до состояния водки спирта.
Во главе стола — виновник торжества Петрович. Рядом, по правую сторону, начальник Горобец Василий Григорьевич, по левую — специалист по безопасности дорожного движения Озоранский Адам Пантелеймонович. Дальше вперемешку: водители, механики, техники.
— Ну что, коллеги… — Горобец поднялся, держась одной рукой за стол, другой хватая со стола полупустой стакан. — Пора закругляться, и напоследок поблагодарить нашего дорогого товарища, нашего, так сказать, краснознамённого… — Горобец покачнулся, незаконченная мысль заблудилась в анналах замутнённого алкоголем сознания. — Так сказать… так сказать… в общем… за проявленные щедрость и хлебосольство… — Горобец громко отрыгнул и тут же закашлял некультурный ляпсус. Прокашлявшись, продолжил торжественно-печально: — Прощай, дорогой друг, нам будет тебя не хватать.
Поболтав зажатый в руке стакан, Горобец опрокинул остатки алкоголя в рот. Горячая волна приятно обожгла внутренности.
— Твой уход стал для нас невосполнимой утратой. Ты был нам не просто коллегой, а настоящим другом, с которым, как говорится, и в строй, и в бой, и в Красную армию, — упивался пойманным за хвост красноречием, Горобец.
Притихшие сотрудники слушали начальника с особым пиететом, свойственным только людям в изрядном подпитии. Вдохновлённый их вниманием начальник продолжал нести всё, что приходило в голову:
— Тебе можно было доверить самые сокровенные секреты. Но особо хочется отметить ту роль, которую сыграл Петрович в инфраструктурном развитии нашего города… — поперхнувшись слюной, Горобец снова закашлялся.
Мысли заканчивались, и в поисках поддержки начальник ловил взгляд специалиста по безопасному движению Озоранского, но слеповатые глаза Адама Пантелеймоновича, казавшиеся выпученными в массивных диоптриях, были прикованы к консервной банке из-под «Бычков в томате». Опорожнённая банка уже как полчаса служила пепельницей. В ней на самом деле лежали бычки, только сигаретные. Слеповатый Озоранский тыкал в банку вилкой, пытаясь наколоть «закуску», но всё время промахивался.
— Давай, Адам, скажи и ты пару слов, — гаркнул Горобец и, не удержавшись, шлёпнулся на лавку.
Озоранский снял очки, отчего его глазки стали микроскопическими, и затянул:
— Я бы хотел отметить профессиональные качества нашего друга и соратника Петровича. Сорок лет служения своему долгу, сорок лет безаварийного стажа, сорок лет… верности профессии, своему восемьдесят шестому маршруту. — Он схватил стакан. — Они уходят вместе, оставляя за собой веху, не побоюсь этого слова — эпоху. Спасибо тебе, Петрович.
— Эх! — Петрович всхлипнул и утёр сухие глаза. Протянул вперёд руки, демонстрируя сморщенные ладони. — Вот они, руки… Они будут скучать по баранке моего автобуса. … — Петрович снова всхлипнул. — Завтра его спишут и утилизируют.
— Так давай, прокатись напоследок, — предложил Горобец. — Последний раз по восемьдесят шестому маршруту.
— Так выпимши вроде… — неуверенно пожал плечами Петрович. — Хотя я бы… Если можно? — Петрович заискивающе посмотрел на Озоранского.
— Ай, — махнул рукой Озоранский. — Последний раз… Город пустой, гаишников нет… Езжай.
— Так может, и вы со мной, прокачу напоследок, а?
— Идея! — обрадовался Горобец. — Вот это настоящие проводы. Айда, места занимать.
Воздух, пропитанный гарью и спиртом, зашевелился, все повставали со своих мест и побрели в сторону автобуса. В опустевшем гараже стало тихо. Спящая в углу баба Нюра всхрапнула и сладко зачмокала.
Ночная дорога прекрасна, тянется лентою, извивается волной, впереди только ночь, чёрная бездна хмурого неба. Свет фар вырывает скудный пейзаж.
— Врубай музон, — кричит Горобец в ухо Озоранскому. Они сидят на передних сиденьях, контролируют движение.
Петрович крутит колёсико старой магнитолы.
— Шансон давай, — подкрикивает Озоранский.
Из гущи шипящих звуков вырывается Агутин, задорно подбадривает: «Крепче за баранку держись, шофёр».
— Крепче за шофёрку держись, баран, — шутит кто-то из глубины салона.
— Громче давай, — взвизгивает Озоранский.
— И газку прибавь, — командует Горобец.
Петрович послушно выкручивает колёсико настройки звука и с силой нажимает на педаль. Агутин истошно орёт, автобус возмущённо гудит, кто-то фальшиво подпевает.
Грязно-жёлтый свет фар вырывает из темноты одинокое, прогнувшееся до земли дерево с остатками сбитой в паклю листвы на скрученных ветках. Дерево приближается со скоростью движения автобуса. Петрович смотрит на него, выпучив глаза. Автобус несётся прямо на дерево, и он ничего не может сделать. Не успевает. Скорость, с которой движется автобус, гораздо выше скорости движения нейронов в хмельной голове. Руки вросли в руль, нога окаменела. Время начало обратный отсчёт: три, два, один…