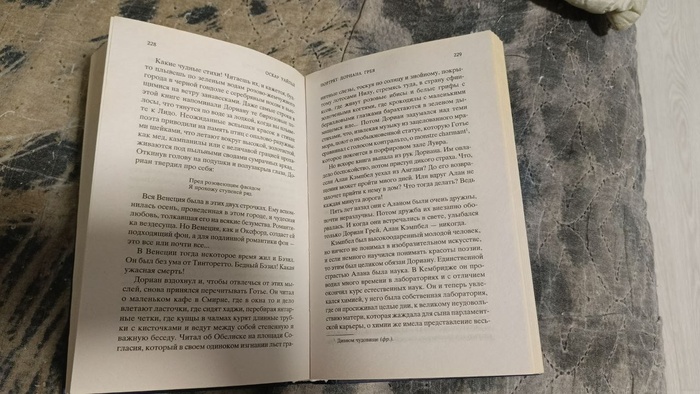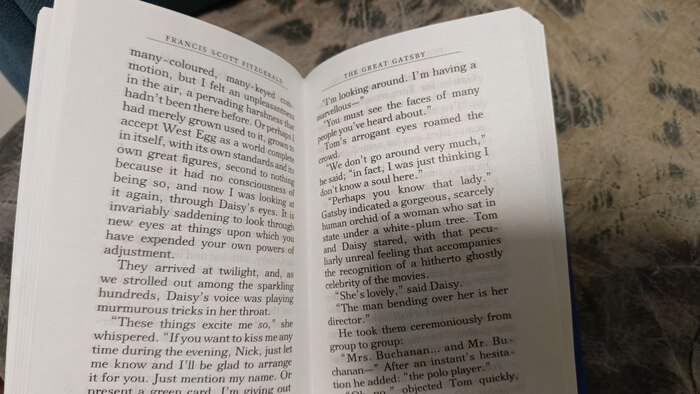От Коэльо до Достоевского (и обратно к ромфанту). Почему мой вкус в 30 лет стал «проще», но честнее?
Недавно я затеяла генеральную уборку на даче и наткнулась на «капсулу времени» - коробку со своими книгами десятилетней давности.
Я сдула пыль, открыла её и... испытала сложную гамму чувств. Это была смесь ностальгии, нежности к той двадцатилетней девчонке и острого испанского стыда.
Там лежали томики Пауло Коэльо с кучей закладок на самых пафосных цитатах.
Там был «Атлант расправил плечи», который я таскала с собой везде, чтобы выглядеть умной. Там была сложная модернистская проза, которую я читала через силу, не понимая ни слова, но гордясь собой.
Я смотрела на этот набор и думала: «Господи, кто эта девушка? И почему она так старалась казаться кем-то другим?».
Сегодня мне за тридцать. Моя прикроватная тумбочка выглядит совсем иначе. Я решила задуматься вот о чем: как наш читательский вкус меняется с возрастом и почему наши преподчтения в книгах говорят о нас больше, чем любая анкета на сайтах знакомств? Лайфхак, который я придумала только что: напишите в свои анкеты на сайтах знакомств, какие книги предпочитаете и человеку, который приблизительно знает что это за книги, станет все понятно о вас и даже чуточку больше)
Мои "лихие" 20-е. Эпоха максимализма и позерства
Какие были ваши 20 лет? Давайте понастальгируем
Я была максималисткой. Я искала себя, я хотела казаться взрослее, глубже, сложнее, чем была на самом деле. И книги были моим главным аксессуаром в этой игре.
Я читала не для себя. Я читала для «внутреннего зрителя» и для того парня в метро, который должен был увидеть у меня в руках Сартра и понять, какая я необыкновенная личность.
Мой тогдашний рацион состоял из трех странных блюд:
1. Пафосная философия и эзотерика.
Коэльо, Ричард Бах, Вадим Зеланд. Я искала в этих книгах Волшебную Таблетку, секретный код, который объяснит мне, как жить эту сложную жизнь, и желательно - как стать богатой и знаменитой, ничего не делая. Каждая мутная фраза казалась мне откровением.
2. Модная «интеллектуальная» проза.
Я давилась Чаком Палаником, Харуки Мураками и постмодернистами. Честно? Я понимала процентов тридцать. Но признаться в этом было равносильно социальному самоубийству в моей тусовке. Я читала их, чтобы поставить галочку в списке «Что должен знать культурный человек». Это было чтение через «не хочу», чтение-насилие.
3. Книги-манифесты.
Тот же «Атлант» Айн Рэнд. В 20 лет, когда у тебя нет ни денег, ни опыта, ни ответственности, очень легко поверить в идею, что ты - непонятый титан, а все вокруг - серые паразиты. Это тешило мое эго.
Если обобщить: в 20 лет я читала, чтобы произвести впечатление - на других и на саму себя.
Переломный момент: Кризис и честность. А потом случилась жизнь.
Случилась первая серьезная работа с переработками и выгоранием. Случились болезненные расставания, переезды, финансовые кризисы. Случилось взросление.
И в какой-то момент, приползая домой в десять вечера, я поняла, что у меня физически нет сил на Сартра. У меня нет ресурса продираться сквозь сложный текст, чтобы кому-то что-то доказать.
Я помню этот день: я закрыла модный, премированный роман, который мучила две недели, и сказала себе: «Всё. Мне не нравится. Я не буду это дочитывать». И небо не рухнуло. Это был момент освобождения. Я разрешила себе читать не для имиджа, а для себя. Для удовольствия. Для утешения.
Мои осознанные 30-е: Эпоха комфорта и глубины
Сейчас мой читательский вкус, на первый взгляд, стал проще. На моей полке стало меньше лауреатов Букера и больше жанровой литературы. Но на самом деле мое чтение стало глубже и честнее.
Что изменилось?
1. Я полюбила «низкие» жанры.
Я запоем читаю качественные детективы. Я могу провести выходные с хорошим фэнтези или даже с ромфантом (романтическим фэнтези). Почему? Потому что взрослая жизнь полна скуки и нету таких парней (по крайней мере я их не встречала), как описаныт в книгах данного жанраМне нужно знать, что убийцу поймают, а герои поженятся. Это моя терапия, мой способ выдохнуть и перезагрузить мозг. И мне за это больше не стыдно.
2. Я начала понимать классику.
Я перечитала «Анну Каренину» и «Госпожу Бовари». В 20 лет они казались мне скучными истеричками. В 30 лет я рыдала над ними. Потому что теперь у меня есть опыт отношений, опыт боли, опыт компромиссов. Я больше не сужу героев с высоты юношеского максимализма. Я вижу в них живых, запутавшихся людей. Классика перестала быть «обязаловкой» и стала разговором по душам через века.
3. Я перестала дочитывать.
Мое время стало слишком дорогим. Если книга не цепляет меня за 50 страниц - до свидания. Жизнь очень коротка для плохих книг, а время все идет и идет и все время не может остановится
4. Нон-фикшн стал прикладным.
Я читаю книги по эзотерике не для того, чтобы обрести древние знания или пройти инициация в какой оккультну практику. Также с книгами по психологии. Я читаю нон-фикшн для того, чтобы разобраться в себе. Разобраться, как устроен мозг и что нужно кушать, чтобы стать умнее, красивее. Например, грецкий орех для активной мозговой деятельности
Если в 20 лет я читала, чтобы убежать от реальности в мир идей, то в 30 я читаю, чтобы лучше понять эту реальность и себя в ней.
Зрелость - это свобода
Глядя на ту коробку со старыми книгами, я больше не испытываю стыда. Та девочка с томиком Коэльо была важным этапом. Она искала свой путь.
Эволюция вкуса - это нормально. Мы меняемся, и наши книги меняются вместе с нами.
Зрелость читателя - это не когда ты читаешь только Достоевского и Пруста.
Зрелость - это когда ты точно знаешь, что тебе нужно прямо сейчас.
Иногда тебе нужен Кафка, чтобы подумать о тщетности бытия.
А иногда тебе нужен комикс про Бэтмена или роман про драконов, чтобы просто выжить в среду вечером.
И обе эти потребности одинаково важны.
Истинный вкус - это не набор «правильных» книг на полке. Это свобода читать то, что ты любишь, без оглядки на то, что подумают другие.
А теперь ваша очередь ностальгировать!
Давайте запустим машину времени. Вспомните себя 5-10 лет назад. Какая книга тогда была вашей библией? С чем вы носились, как с писаной торбой?
И что лежит у вас на прикроватной тумбочке прямо сейчас?
Сильно ли отличается этот набор? И как вы думаете, что это говорит о ваших внутренних переменах?
Делитесь своими историями эволюции в комментариях! 👇
Оригинал: https://dzen.ru/a/aTGkMjbujTc_Eb5V
Подписывайся: https://dzen.ru/worldbooks1
О творчестве Владислава Крапивина
Читаю советского писателя Владислава Крапивина и думаю – почему такие сильные с этической и воспитательной т. зр. книги прошли для русской культуры почти бесследно? Заглянешь в коменты к его книгам на сайтах – читатели просто кричат от благодарности, славя давно ушедшего автора. Но где его след в русской культуре на уровне выше книжного, в какой-то идеологической рефлексии? Там у нас один Достоевский с его педофильскими фантазиями и садомазохизмом.
Крапивин ярко, в сильной драматургии изображал особую породу людей – смелых, мужественных, честных. Абсолютно непохожих на героев Достоевского. Хоть на нем стоит клеймо "детская литература", но и взрослые его читают с удовольствием.
Но он не дал этой породе имя. Эта порода у него рассеяна по всем сеттингам и жанрам – советский быт, фантастическая утопия будущего. В итоге получилось, что конструируемая им безымянная идентичность растворилась в общем культурном потоке, вместе со своими особыми смыслами, которые он в нее вкладывал.
А Достоевский дал. У него все герои – "русские". Он приложил много усилий, чтобы все в мире запомнили, что русские – это раскольниковы, мышкины, карамазовы, ставрогины, мармеладовы, рогожины. Даже каждая фамилия стала своеобразным брендом, маркером своего извращенного подвида субидентичности "русских". Вот и получилось, что достоевщина вплелась в русскую идентичность, а крапивинщина – нет. Да, возможно потому что Достоевский со своей шизой был намного более сильным писателем, чем Крапивин. Но если бы более слабый Крапивин придумал своим людям особое имя, кто знает, насколько его след стал бы глубже.
Это тем более грустно, что Крапивин явно понимал важность брендирования – он создал отряд "Каравелла", который существует в Екатеринбурге до сих пор. Шпаги, барабаны, трубы. Понимал, но не использовал в самом главном – в имени.
…
Учителя выделяют способных и активных учеников в отдельный класс, чтобы отстающие не тормозили их, не тянули назад. Школьный класс – это субидентичность в рамках школы как целого.
По той же логике, если национальная идентичность (имеющая свое имя) начинает терять единство в базовой этике, и противоречия внутри неё становятся критическими для коммуникации и совместной деятельности, нужно формировать новые субидентичности с более целостной этикой и правилами.
В тот момент, когда русские начали раскалываться на непримиримые группы с разным отношением к власти и ее политике, с разным отношением к жизни, идентичность "русский" перестала быть для них общей. Возникла необходимость различения на уровне имен – потому что не может быть одно имя у тех, кто ищет истину свободным умом, и тех, кто как объезженная лошадь, подчиняется поводьям даже в своем мышлении.
И сразу выяснилось, что свободным русским не надо придумывать новое имя – оно осталось в моменте перед фазовым переходом 1237 года. После этого гражданская идентичность "русь" начала заменяться на подданскую идентичность "русские", воспеванию болезней которой и посвящено творчество Достоевского.
Творчество Крапивина по сути посвящено изображению руси, русичей – людей, для которых на первом месте правда, свобода и честь, на последнем – бюрократические регламенты и те, кто великолепно использует их для подавления других и манипуляций ими к своей выгоде.
Крапивин оказался добрее, но слабее Достоевского. Но история руси еще не закончена. Будут еще писатели.
Источник: Тени Руси
Чернила и Зеркала. Глава 18
Мысль промелькнула со скоростью света: грузовик — приманка, его опознали. Сохранить его нереально. Я рванул к ближайшему приземистому и тёмному автомобилю, нырнул к двери. Холодная металлическая ручка не поддалась, замок щелкнул с издевательской чёткостью.
Оглушительный грохот выстрела разорвал ночную тишину, и у машины, в которую я целился, лобовое стекло превратилось в паутину и осыпалось веером осколков. Мелкие, острые осколки, словно ледяная крупа, брызнули на асфальт, зашуршав под ногами. Под прикрытием других машин, пригнувшись так, что спина заныла, я петлял обратно, к своему грузовику, заходя со стороны капота. Ещё один оглушающий удар по барабанным перепонкам — и где-то позади с сухим лязгом зазвенело железо. Охранники были уже в паре десятков шагов, их тяжёлые спешные шаги глухо отозвались по асфальту.
С молитвой на губах я вставил ключ. Старый, измученный мотор кашлянул, чихнул и, на удивление, завёлся с пол-оборота. Я вдавил газ в пол, грузовик рванулся назад, разворачиваясь бампером со скрежетом и сбивая с ног одного из орков, не успевшего отпрыгнуть. В тот же миг ощутил острое, ледяное прикосновение смерти где-то в области сердца — инстинктивно бросился телом на сиденье. Над головой со свистом, рассекающим воздух, пролетела пуля, и в спинке пассажирского сиденья зияла уже дымящаяся, с рваными краями рана, из которой клочьями торчала набивка. С пронзительным визгом шин вынесло меня на главную дорогу, чудом избежав столкновения с мчащимся потоком машин.
Я выжимал из двигателя всё, что мог, но тяжёлый грузовик рычал и вибрировал, словно вот-вот развалится. В зеркале заднего вида уже виднелись слепящие, как прожектора, фары и слышался мощный, низкий рев мотора — погоня началась. На такой развалюхе далеко не уедешь.
Резким рывком нырнул в вонючий переулок, густо пропитанный запахом гниющих отбросов. За поворотом резко зазвенел металл, истерзанное зеркало царапнуло чужую машину, оставив после себя мрачную полосу разрушения. Кто-то отчаянно крикнул вдогонку, но сейчас это уже ничего не значило. Важно было лишь одно — вырваться вперёд хотя бы на мгновение, чтобы выиграть драгоценные секунды.
И снова — острое, жгучее, как удар хлыста, предчувствие опасности. Инстинктивно рванул руль в сторону. Машина тут же затряслась с такой силой, что головой ударился о боковое стекло, а через весь капот и кабину прошёл сокрушительный металлический удар. Двигатель захлебнулся, издал предсмертный хрип, из-под капота повалил густой, едкий чёрный дым. Прямо в мотор попали. Всё кончено.
Не думая, на ходу я с силой распахнул дверь и выпрыгнул на несущийся асфальт, едва успев поймать равновесие и перекатиться, сдирая кожу на ладонях. Ноги сами понесли меня в спасительную серость темноты, в хаотичный лабиринт между домами. Сзади кричали: «Стой! Сволочь! Не то пристрелим!» — сопровождая угрозы глубоким, гортанным матом.
Кажется, они не заметили, в какой именно подъезд я нырнул, словно крыса в нору. Сердце колотилось с такой бешеной частотой, что перехватывало дыхание. Адреналин и страх — такую гремучую, животную смесь я ещё не испытывал. Почти не касаясь ступеней, взлетел по лестнице на пятый этаж и сорвавшимся шёпотом выругался про себя — «Ворон» остался дома. Чёрт бы побрал мою забывчивость.
Вместо того чтобы лезть на чердак, я, задыхаясь, как загнанный зверь, начал колотить в первую попавшуюся дверь. Дверь открыл суровый, небритый мужчина в застиранной майке.
— Кого чёрт…? — Его голос был хриплым от сна.
Я ввалился внутрь, не слушая его нарастающего потока ругательств, и рванул вглубь квартиры, к балкону.
— Закрой дверь, быстро! Сейчас сюда вломится толпа вооружённых головорезов!
— Кто вломился? Какого хрена ты здесь забыл? Вали отсюда!
Он грубо схватил меня за плечо.
Времени не было. Развернувшись, я нанёс короткий, точный удар основанием ладони под челюсть. Он закатил глаза и рухнул на пол, словно мешок с костями. Из соседней комнаты выскочила женщина в ночной рубашке, с перекошенным от страха лицом и начала пронзительно, истерически кричать. Я с грохотом захлопнул дверь на замок и повернулся к ней, в глазах — холодная, отчаянная ярость.
— Ещё один звук, и я тебя замочу, — прошипел я, впиваясь в неё взглядом, залезая в карман пиджака, будто достаю оружие. — Быстро в спальню. И тихо, как мышь.
Она, заливаясь беззвучными слезами, кивнула и пулей умчалась в другую комнату. Я же присел на корточки у балкона, выглядывая в узкую щель между шторами. На лестничной площадке послышались грубые, нечленораздельные голоса и тяжёлые, торопливые шаги.
Время вышло. Распахнув балконную дверь, я перемахнул через перила. Бетонный выступ на мгновение просел и хрустнул под ногой, заставив сердце провалиться куда-то в бездну. Онемевшими пальцами цепляясь за холодные швы кирпичной кладки, я спустился сначала на балкон четвёртого этажа, потом столь же неуклюже и отчаянно — третьего. Оказавшись на земле, замер, вслушиваясь в грохот крови в ушах. Крики раздавались сверху.
И тут я её увидел. Ту самую машину, на которой приехала погоня. «Ноктюрн» (1953 Buick Roadmaster Skylark) цвета ночной грозы, будто из чёрно-белого кино, слепил сверкающим хромом и гипнотизировал изящными линиями. Они оставили её у подъезда, ключи, судя по всему, в зажигании. Истеричный, сдавленный смешок облегчения вырвался у меня из горла. Спасибо, ребята, за такую роскошную оплошность.
Я заскочил в прохладный, пахнущий кожей и дорогим парфюмом салон. Ключи действительно торчали в замке. Сдавленно, больше для себя, пробормотал:
— Спасибо за тачку, ребят. Выручили.
И улизнул, растворяясь в тёмных, безымянных, как и я, улицах Холмов — Верхнего города.
Расслабиться мне не дали. Из соседних улиц, словно призраки из тумана, вынырнули еще два низких тёмных автомобиля охраны, несущихся навстречу с воем, в котором чувствовался профессиональный холод. Проезжая мимо, я отчаянно размахивал руками, указывая пальцами в сторону переулков, откуда прибыл, изображая истеричную панику и показывая направление, куда исчез «опасный ублюдок». Нервы натянулись струнами, готовые лопнуть. Большинство машин рванули туда, куда я показал, но одна, самая настырная, с затемнёнными стёклами, резко развернулась с визгом шин и устремилась вслед за мной, прилипнув к хвосту.
Я швырнул руль в сторону, сворачивая в первый попавшийся глухой, заваленный мусором переулок, вдавив газ в пол до упора. Тот, кто сидел за рулём преследующей меня машины, явно знал своё дело. Он не просто гнался — он чувствовал дорогу, грамотно резал повороты, не давая мне ни сантиметра форы. Пока хотя бы не стреляли. Я наощупь, одной рукой, обыскивал салон, шарил под прохладной кожей сидений в тщетной надежде найти хоть какой-нибудь ствол, нож, хоть монтировку. Ничего. Пусто. Тоска.
Поток машин по мере удаления от центра растаял, скрываться стало не за кем. И преследователи, кажется, пронюхали неладное. Они прижались ещё ближе, начали ослеплять дальним светом, из окна послышались хриплые крики: «Останавливайся! Конец игры! Сейчас пулю в колесо пущу!»
Я пытался выжать из «Ноктюрна» последние соки, но меня попросту протаранили. Жёсткий, расчётливый удар в заднее колесо — моя машина закрутилась волчком и вылетела на пыльную обочину, с грохотом врезавшись в кучу пустых ящиков. На сей раз уйти не удалось.
Я вывалился из двери, но дорогу мне преградили трое — двое крупных мужчин и худощавая женщина, все в безликой тёмной униформе, с поджарыми, готовыми к действию фигурами и стеклянными глазами наёмников.
— Да ладно вам, — попытался я внести нотку беззаботности, поднимая руки. — Я просто заблудившийся гражданин. Видимо, не туда свернул. Тихо-мирно поеду, ладно? Ничего не видел, ничего не слышал. А?.
Ответом был молниеносный, вгоняющий в ступор удар прикладом прямо под дых. Воздух с болезненным свистом вырвался из лёгких. Меня грубо, с отточенными движениями, втолкнули на пассажирское сиденье их машины, двое уселись по бокам, сжимая так, что рёбра затрещали. Попытки заговорить — «Ребята, может, на деньгах сойдёмся? Я случайный свидетель!» — натыкались на гробовое молчание. Со мной попросту не считали нужным вести диалог.
Пока везли, я лихорадочно, сбивчиво соображал, проглатывая ком в горле. Если меня привезут к Харлану, врать будет бесполезно — как мертвому припарки. Его проницательность, подкреплённая древней магией, вскроет всю мою ложь, как консервную банку. Он поймёт, кто вмешался в его идеально выстроенный план с отравленным вином. Мысли метались по клетке черепа, выискивая лазейку. Возможно, ещё не всё потеряно. А если нет… горькая ирония — «Ворон» остался дома.
Меня привезли к порту. Едкий запах солёной воды, тяжёлого мазута и влажной ржавчины ударил в ноздри. Вытащили из машины и, не церемонясь, потащили в один из бесконечных, уродливых ангаров. Задавать вопросы и вырываться было бессмысленно — наёмники молчали, а их стальная хватка не оставляла ни проблеска надежды.
Внутри царила почти осязаемая, давящая тьма, пахло застоявшейся пылью, гниющей рыбой и резким озоном. Спасибо хоть этому проклятому зрению, пробивающему мрак. Меня грубо протащили мимо смутных теней, скрывающих штабеля ящиков и непонятное оборудование, к одинокому островку света под голой, качающейся лампой на длинном проводе. В центре этого жутковатого пятна стоял простой ржавый металлический стул.
Меня швырнули на него, скрутили руки за спиной прочным, впивающимся в запястья пластиковым жгутом. И оставили. Классика жанра, отточенная до автоматизма. Сейчас посижу в гробовой тишине часок-другой, пока не появится тот, кому я представляю ценность. Время на бесплодные размышления. И на медленно подтачивающий страх.
Ровно через полчаса, отмеренные пульсацией в висках, в ангаре послышались чёткие, неторопливые шаги. Сверху, с зыбкой металлической галереи, спустился Николаос. Он постарался придать своему появлению театральный эффект — выплыл из темноты, остановился на самом краю света, отбрасываемого лампой, оставив своё лицо в тени. Я вида не подал, но видел его во всех деталях, так же, как и четыре неподвижные тени наёмников, замерших в темноте по периметру. Они наивно полагали, что невидимы.
Николаос стоял, скрытый мраком, словно паук в центре паутины, когда раздался его низкий, обволакивающий голос, будто доносившийся из самой пустоты:
— Кто ты такой?
Голос из ниоткуда. Не видя его, правда, было бы сложно — и страшно.
— Я просто курьер, — хрипло, сквозь ссохшееся горло, ответил я.
Охранник слева, невидимый в бархатной тьме, нанёс короткий жёсткий удар в скулу. Голова откинулась назад, во рту сразу почувствовался вкус меди с горечью. В глазах на секунду вспыхнули искры.
— Кто ты такой? — повторил Николаос с той же ледяной, безразличной неторопливостью.
— Курьер, — выдохнул я, сглатывая тёплую, солёную кровь.
Охранник повторил удар, чуть ниже. Боль, острая и разливающаяся жаром, пронзила всю челюсть.
— Сегодня в том клубе должно было случиться кое-что... из ряда вон, — продолжил Николаос; его голос был ровным, как поверхность озера, будто он вёл рутинные переговоры. — Почему ты бежал?
— А почему вы гнались? — попытался я парировать, в голосе прозвучала надтреснутая дерзость.
Ответом стал тяжёлый, как молот, кулак в солнечное сплетение. Воздух с болезненным шипением вырвался из лёгких, я согнулся пополам, пытаясь сделать хотя бы глоток.
— Испугался, — выдавил я, слюнявя подбородок. — Не хотелось оставаться на разборках.
— Ты спас ту пианистку. И побежал только после этого. Почему?
— Хотел... спасти хоть кого-то, — прохрипел я, и в голосе дрогнула неподдельная усталость.
Николаос молча кивнул в темноту. Охранник снова врезал кулаком мне в живот. Я закашлялся судорожно, едва не выплеснув желудочный сок.
— Что ты знаешь об этом яде? — Голос Николаоса внезапно раздался прямо над ухом; он бесшумно подошёл ближе, пахнущий дорогим парфюмом и холодным металлом.
— Ничего, — продышался я, тряся головой, сбрасывая капли пота. — Не знаю.
— Как тогда ты узнал об отраве?
— Интуиция… — Я сделал глубокий, дрожащий глоток воздуха. — Сам Харлан сказал… Что этому городу не только помогали, но и мешали… А потом принесли вино. Я сложил два и два. Решил, что он хочет устроить разборку. Может, бизнес отжать? Или ещё что-то такое.
— Например? — мягко, почти по-дружески, спросил он.
— Не знаю... Отпустите, я ничего не знаю.
— Почему ты не хочешь сказать, кто ты на самом деле?
И тут я буквально почувствовал это. Давление. Не физическое, а тонкий, холодный щуп, который попытался ввинтиться в мои мысли. И так же, как тогда в больнице, когда давила Тайная служба, что-то внутри сработало на автомате. Плотная, инстинктивная стена мгновенно отгородила моё сознание. Я даже не успел понять, как её возвёл.
— Я не вру, — хрипло, упираясь лбом в спинку стула, сказал я.
Снова удар под дых. Я скрючился, давясь желчной горечью.
— Как какой-то курьер, — его голос вновь обрел ледяное, методичное спокойствие, — способен просто так пройти на закрытую, тщательно охраняемую вечеринку? Устроить целый спектакль на кухне? Обвести вокруг пальца профессионалов? И каким-то непостижимым образом угадать о покушении на самых влиятельных людей города и страны?
Я поднял голову, смазав окровавленный подбородок о шершавую ткань плеча.
— Интуиция… — упрямо повторил я. — И ещё… его манера речи. Тон. И та фраза… будто кто-то ему мешает. Взгляд… голодный. Будто именно он главный зритель шоу и хочет устроить его исключительно для себя.
В темноте наступила густая, звенящая тишина. Казалось, он взвешивал каждое моё слово на незримых весах.
— Кто тебе платит? — наконец спросил он, и в его голосе впервые прозвучало слабое, но отчетливое раздражение.
— На кого ты работаешь? Такого, как ты, в курьерской службе и в помине не было. Мы это уже проверили по всем базам. А если понадобится, потратим ещё сутки и выясним твою биографию до десятого колена. Или неделю… если твоя личность кем-то основательно прикопана.
Охранник слева снова двинулся, как тень. На этот раз удар пришёлся по переносице, заставив мир вспыхнуть белой болью и на миг уплыть в никуда.
— Кто ты такой? — прозвучал последний, усталый, почти разочарованный вопрос из темноты.
— Значит, я теперь безработный, — хрипло выдавил я, чувствуя, как тёплая струйка крови стекает по подбородку, сплёвывая липкий сгусток на пыльный бетонный пол. — Опять по объявлениям бегать.
Снова удар по лицу. Костяшки со звонким щелчком встретились с челюстью. Звон в ушах усилился, превратившись в навязчивый высокий гул.
— Что ты делал на вечеринке? — Его голос остался прежним — ровным, безразличным инструментом.
Я сделал вид, что окончательно сдаюсь, обмякнув всем телом, словно тряпичная кукла.
— Отвечу... Только, когда не будет лишних ушей.
Он молча кивнул в звенящую темноту. Двое охранников, стоявшие метрах в двух, развернулись с отточенной синхронностью и ушли в глубь ангара — их шаги быстро растворились в пустоте. Ещё двое оставались неподвижны на своих местах.
— Теперь мы одни, — констатировал Николаос. — Можем поговорить.
— Мы не одни, — я кашлянул, горло запершило от крови. — Этот вот сбоку сопит, как паровоз. А эта… — Я едва заметно мотнул головой в другую сторону. — Ерзает. Слышу, как куртка шуршит по грубой ткани.
Николаос на секунду замер, хотя в темноте ему вряд ли было что-нибудь видно. Послышался сдавленный, почти неслышный возмущённый вздох. Они действительно были профи — я их не слышал, просто блефовал, делая вид, будто не вижу.
— Выйдите, — тихо, но не допуская возражений, приказал Николаос.
Николаос приблизился, наконец-то выйдя из полосы тени в тусклый свет лампы. Его лицо было маской невозмутимости, но в глазах читалась усталая, отточенная годами решимость.
— Говори.
Я сделал глубокий, прерывистый вдох, собирая в кучу разрозненные мысли. Полная правда — верная смерть. Полная ложь — тоже. Остается лишь полуправда.
— Элис… Та пианистка… — начал я, искусственно делая паузу, чтобы придать словам нужный вес. — Она моя бывшая. Я… отчаянно хотел воспользоваться этим шансом. Последний раз извиниться перед ней. Надежда была такой: если она увидит меня и поймет, на что я ради неё пошёл, возможно, сжалится.
Он медленно моргнул, веки опустились и поднялись с точностью механизма.
— Что?
— Я люблю её, — выдохнул я с надрывной, почти истерической искренностью, мне даже почти не приходилось врать. Я действительно всё ещё скучал по ней.
— И спас потому, что не простил бы себе, если б она пострадала на моих глазах. А насчёт отравы… — Я замялся, изображая глубокое замешательство. — Просто видел на кухне, когда вносили вино, крошечные, маслянистые пузырьки в толстом стекле. Названия не прочёл. Решил, что это какие-то добавки для вкуса. А уже в самом клубе… У меня просто сложилась картинка. Его речь. Эти взгляды. Потом нашёл первого, с кем поговорил, и выпалил то, что сорвалось само собой. Я не думал, я паниковал. Когда понял, что Ла Брюньер сотрёт меня в порошок просто как досадную помеху… вот тогда и рванул сломя голову.
Николаос несколько секунд молча смотрел на меня, его взгляд, казалось, просверлил меня насквозь, затем взгляд ненадолго отвел в сторону, в непроглядную тьму, где, как я подозревал, скрывался его менталист. Потом он вновь впился взглядом в меня, и в его обычно спокойных глазах впервые вспыхнуло нечто похожее на искреннее, почти человеческое раздражение. Раздражение от абсурда, оказавшегося истиной.
— И всё же, — произнёс он тихо, и в его голосе впервые прозвучала усталость, — ты так и не сказал мне, кто ты.
Он сделал шаг ближе, и его холодная, отбрасываемая телом тень накрыла меня целиком, словно саван.
Архитектура надежды: почему я трачу состояние на книги, которые никогда не открою
О синдроме Цундоку, анти-библиотеке Умберто Эко и о том, почему стопка непрочитанных томов — это не памятник лени, а инвестиция в лучшую версию себя.
Сценарий всегда один и тот же. Я захожу в книжный магазин с самыми невинными намерениями. «Мне просто нужно убить двадцать минут до встречи», — говорю я себе. Или: «Я только посмотрю новинки нон-фикшена, мне ничего не нужно». Это ложь, которую я повторяю себе уже двадцать лет, и в которую мой внутренний циник давно перестал верить.
Я вхожу в этот храм бумаги и чернил, вдыхаю этот специфический, сладковатый запах клея и возможностей, и моя сила воли растворяется быстрее, чем сахар в горячем чае. Я прохожу мимо столов с бестселлерами, мои пальцы скользят по корешкам, считывая названия как обещания. Вот монументальная биография Оппенгеймера (конечно, я должна знать всё о создании атомной бомбы). Вот новый сложный роман лауреата Букера (я ведь интеллектуальный человек, я обязана быть в курсе). А вот переиздание японской классики в таком невероятном оформлении, что не купить его — преступление против эстетики.
Спустя полчаса я выхожу на улицу. Мой банковский счет стал легче на сумму, эквивалентную хорошему ужину в ресторане или новым туфлям. Мои руки оттягивают два бумажных пакета, набитых тяжелыми, плотными томами. Я испытываю сложный коктейль чувств: острый укол вины за расточительство, смешанный с пьянящим дофаминовым восторгом. Я чувствую себя богатой. Я чувствую себя умной. Я несу домой сокровища.
Я прихожу домой, ставлю новые книги в стопку на прикроватной тумбочке — стопку, которая уже давно превратилась в самостоятельный предмет мебели, опасно кренящуюся башню из невыполненных обещаний. Я смотрю на них с нежностью.
А потом я ложусь на диван и три часа смотрю сериал на Кинопоиске.
Искусство покупать, не читая
Долгое время я жила с разъедающим чувством стыда. Мне казалось, что я мошенница. Книжный обозреватель, филолог, человек, чей дом похож на филиал городской библиотеки, — и при этом я физически не успеваю читать и третью часть того, что приношу в дом. Мои полки ломятся от книг, которые смотрят на меня с немым укором. «Ты купила нас в 2018-м, — шепчут они. — Ты обещала, что мы проведем вместе отпуск».
Мое спасение пришло с Востока. Оказывается, для моего состояния есть специальный термин. Японцы, нация с удивительной способностью давать имена самым тонким оттенкам бытия, называют это «Цундоку» (積ん読).
Это слово состоит из иероглифов, означающих «нагромождать» и «читать». Цундоку — это искусство покупать книги и позволять им накапливаться непрочитанными. Это не лень и не транжирство. Это стиль жизни. Это признание того факта, что акт приобретения книги и акт её чтения — это два совершенно разных удовольствия, не обязательно связанных между собой причинно-следственной связью.
Узнав об этом, я вздохнула с облегчением. Я не шопоголик с обсессивно-компульсивным расстройством. Я практикую древнее японское искусство.
Звучит гораздо благороднее.
Психология «книжного хомяка»
Но если отбросить красивую терминологию и посмотреть правде в глаза: зачем мы это делаем? Зачем мы продолжаем инвестировать деньги и пространство наших и без того тесных квартир в объекты, которые, возможно, никогда не используем по назначению?
За годы самоанализа я поняла, что покупка книги — это не просто транзакция. Это акт самоидентификации. Это покупка «аспирационной версии себя».
Когда я покупаю 800-страничный труд по истории Византии, я покупаю не просто бумагу с текстом. Я покупаю ту версию себя, которая по вечерам, надев очки в роговой оправе и налив бокал бордо, будет вдумчиво изучать падение Константинополя. Эта версия меня умнее, дисциплинированнее и глубже, чем та я, которая существует сейчас и хочет смотреть видео с котиками.
Покупка книги — это самый быстрый способ приблизиться к идеалу. Прочитать книгу долго и трудно. Купить её — дело пяти минут. В тот момент, когда мы прикладываем карту к терминалу, мы уже чувствуем себя немного лучше. Мы застолбили территорию знания. Мы пообещали себе, что однажды мы станем этим человеком.
Цундоку — это налог, который мы платим за надежду на самосовершенствование.
Кроме того, давайте будем честны: книги — это лучший вид шопинга. В мире быстрого потребления, где новая одежда выходит из моды через месяц, а гаджеты устаревают через год, книга остается вечной ценностью. Потратить сто долларов на косметику кажется легкомыслием. Потратить их на книги — это «инвестиция в знания». Это социально одобряемый порок, идеальное алиби для внутреннего транжиры.
Анти-библиотека как защита от глупости
Окончательную индульгенцию мне выдал Нассим Николас Талеб в своей книге «Черный лебедь». Он описывает легендарную личную библиотеку писателя и философа Умберто Эко, которая насчитывала более 30 000 томов.
Когда гости приходили к Эко и видели эти бесконечные стеллажи, они задавали один и тот же глупый вопрос: «Ух ты, синьор профессоре, и вы всё это прочитали?».
На что Эко, вероятно, сдерживая раздражение, отвечал, что нет, конечно. И в этом весь смысл. Талеб называет это концепцией «анти-библиотеки». Прочитанные книги — это просто трофеи, напоминание о том, что вы уже знаете. Они менее ценны, чем непрочитанные.
Непрочитанные книги — это инструмент смирения. Они — постоянное, физическое напоминание о том, как многого мы еще не знаем. Это воплощенное сократовское «Я знаю, что ничего не знаю». Стоя перед шкафом, забитым книгами, которые я еще не открывала, я чувствую не вину, а благоговейный трепет перед безбрежностью человеческого знания. Анти-библиотека держит нас в интеллектуальном тонусе, не давая забронзоветь в собственной уверенности.
Так что мои стопки на полу — это не бардак. Это моя личная анти-библиотека, мой инструмент борьбы с когнитивной самоуверенностью.
Смирение перед хаосом
Конечно, я пыталась бороться. Я вводила «книжные диеты» и объявляла «год без покупок» (срывалась в феврале). Я устанавливала правило: купила одну новую — отдай одну старую (в итоге я просто прятала новые книги, чтобы не отдавать старые). Я составляла списки и клялась читать по плану.
Ничего не работает. Я смирилась.
Я книжный барахольщик, практикующий цундоку и собирающий анти-библиотеку. И мне это нравится.
Мне нравится жить в окружении этих молчаливых возможностей. Мне нравится знать, что, если завтра наступит зомби-апокалипсис, у меня есть запас отличной литературы на ближайшие десять лет. Мне нравится просто смотреть на них. Книги — это лучшие предметы интерьера, они делают комнату живой и теплой, они поглощают звук и излучают уют.
Возможно, я никогда не прочитаю ту биографию Оппенгеймера. Возможно, стопка непрочитанных шедевров на моей тумбочке однажды рухнет и погребет меня под собой. Что ж, это будет неплохая смерть. По крайней мере, я умру в хорошей компании.
Оригинал: https://dzen.ru/a/aTGWkr7Tr0WNStMQ
Подписывайся: https://dzen.ru/worldbooks1
Змеиный Полоцк
Глава 11: Охота
Ночь укутала берег Полоты саваном. Не было ни луны, ни звезд — небо затянуло плотным, свинцовым сукном, и лишь редкие просветы позволяли угадать, где верх, а где низ.
Ратибор лежал в густых зарослях ивняка, по пояс укрытый палой листвой и жесткой осокой. Холод сырой земли пробирал через кафтан, кольчуга леденила плечи, но шевелиться было нельзя. Охота на хищника требует терпения камня.
Он выбрал место в ста шагах от того омута, где нашли сына кузнеца. Логика подсказывала: зверь возвращается к удачной тропе. Но инстинкт ныл, как больной зуб, шепча, что эта тварь — не волк и не медведь. У нее другие законы.
Первые часы прошли под аккомпанемент ночной жизни реки. В камышах возились ондатры, где-то ухала сова, а хор лягушек гремел так, что закладывало уши. Это было добрым знаком: пока "болотные певуньи" кричат, рядом нет ни цапли, ни щуки, ни чего похуже.
Ратибор сжимал рукоять меча, смазанного сажей, чтобы не блестел. Глаза привыкли к темноте, различая силуэты коряг и черный блеск воды. Мысли текли вяло, путаясь с дрёмой. Три дня... Травник в подклети... Спущенные штаны мертвецов...
А потом мир изменился.
Это произошло не сразу. Сначала с реки пополз туман. Он был густым, белесым, словно кто-то вылил в черную воду бочку скисшего молока. Туман не стелился по воде, он вставал стеной, скрадывая звуки, поглощая очертания берега. Он полз к засаде Ратибора, касался лица влажными, холодными пальцами, оседал росой на усах.
Видимость упала до вытянутой руки. Ратибор моргнул, силясь проглядеть сквозь мутную пелену, но та была непроницаема.
И тут наступила тишина.
Лягушачий хор оборвался не постепенно, а разом. Словно невидимый дирижер взмахнул палочкой — и сотни глоток захлебнулись страхом. Замолчали сверчки. Затих ветер в верхушках ив. Даже вода перестала плескаться о коренья.
Полоцк, мир живых, остался где-то далеко, за спиной. Здесь, у кромки воды, воцарилась Пустота.
Ратибор почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Это было не затишье перед бурей. Это была реакция всего живого на присутствие Смерти.
В груди вдруг стало горячо. Амулет ведуньи Велены — сушеная куриная лапка — словно нагрелся под рубахой, начал колоть кожу острыми когтями, вызывая зуд. Ратибор хотел было почесаться, но замер.
В тумане, там, где должна быть река, что-то было.
Звука не было. Не было плеска весел, не было чавканья сапог по грязи. Но Ратибор кожей ощущал тяжелое, давящее присутствие. Словно огромная гора медленно смещалась в пространстве.
Голова начала кружиться. Веки стали тяжелыми, накатила сладкая, тягучая усталость. Захотелось встать, выйти из укрытия, посмотреть, что там белеет во мгле... Захотелось опустить меч.
«Морок!» — прожгла мысль.
Амулет царапнул грудь сильнее, боль отрезвила. Ратибор прикусил губу до крови, прогоняя наваждение.
Он вглядывался в молочную стену до рези в глазах. Ему казалось, что он видит движение — плавное, тягучее колыхание тьмы внутри тумана. Огромный силуэт? Изгиб исполинского тела? Или просто игра воображения, испуганного разума?
— Покажись... — одними губами прошептал он. — Только покажись.
Но ничего не произошло.
Ни всплеска, ни атаки, ни горящего взгляда. Сущность прошла мимо. Или постояла, выжидая, пробуя воздух своим раздвоенным языком, и, не почуяв легкой добычи, утекла дальше.
Туман стоял еще долго, давя на плечи. Ратибор лежал, чувствуя, как деревенеют ноги. Он проиграл этот раунд. Тварь не пошла по старой тропе. Она была хитрее. Или же...
Лягушки, осмелев, неуверенно подали голос — одна, другая, и вскоре хор возобновился, хоть и не так бойко.
Тварь ушла. Но куда?
Ратибор медленно поднялся, отряхивая мокрые листья. Его трясло от напряжения и холода. Охота не удалась. Капкан остался пустым.
Но тишина, которая стояла над рекой минуту назад, сказала ему больше, чем любой свидетель. Зверь здесь. И зверь голоден. И если он не клюнул на засаду у реки, значит, он нашел еду в другом месте.
И тут, словно в подтверждение его черных мыслей, далеко, со стороны дальних хуторов, разорвав ночную тишину, донесся крик. Не лягушачий, не птичий. Человеческий.
Ратибор рванул меч из ножен и побежал на звук, проклиная туман, ночь и свою неудачу.
Глава 12: Крик на хуторе
Ноги сами несли его сквозь подлесок. Ветки хлестали по лицу, как розги, цеплялись за плащ, пытаясь удержать, но Ратибор не чувствовал ни боли, ни усталости. В ушах всё ещё стоял тот крик — полный смертного ужаса, оборвавшийся так внезапно, словно кричащему перерезали глотку.
Туман, плотный у реки, здесь, на возвышенности, редел, превращаясь в рваные клочья, цепляющиеся за стволы сосен. Ратибор бежал на дальний хутор — уединенное хозяйство бортника Микулы, стоявшее особняком, в версте от городской стены. Глухое место. Идеальное для тех, кто ищет уединения… или жертву.
Когда впереди показался черный силуэт избы, Ратибор замедлил шаг, выравнивая дыхание. Меч лежал в руке привычной тяжестью, но ладонь была мокрой от пота.
Было тихо. Слишком тихо. Даже дворовый пес Брехун, известный своим скверным нравом, не встречал чужака лаем.
— Микула! — позвал Ратибор, но голос его прозвучал глухо, словно вата тумана поглотила звук.
Ворота плетня были распахнуты настежь. Одна створка сиротливо скрипела, раскачиваемая ветром.
Ратибор шагнул во двор, готовый к удару.
Никто не напал. Двор был пуст, лишь перевернутая корзина да рассыпанная поленница говорили о том, что здесь недавно кто-то бежал в панике.
Дружинник подошел к крыльцу. Дверь в избу была приоткрыта. Из темного провала тянуло холодом и… тем самым запахом. Едва уловимым теперь, выветривающимся, но всё еще узнаваемым. Шафран. И сладкая гниль.
Ратибор зажег от огнива припасенный в суме факел-смоляк. Яркий, трескучий свет разогнал тени, и дружинник едва не споткнулся.
У самого крыльца, в грязи, лежал человек.
Это был Микула. Крепкий, жилистый мужик, который мог в одиночку завалить медведя. Сейчас он выглядел как сдутый пузырь. Его одежда была разорвана, штаны спущены до лодыжек, обнажая иссохшие, серые бедра. Лицо Микулы было обращено к звездам, и на нем застыла та же чудовищная, блаженная улыбка, что и у других.
Он высох до дна.
— Проклятье… — выдохнул Ратибор, опускаясь на колено. Тело было еще теплым. Он опоздал всего на несколько минут.
Но тут свет факела выхватил из темноты еще одно пятно. Чуть поодаль, у колодца, лежало что-то белое.
Ратибор поднял факел выше.
Женщина.
Это была молодая жена бортника. Она лежала навзничь, раскинув руки, словно пытаясь отползти. Её сарафан был задран, длинная коса растрепалась в грязи.
Ратибор подбежал к ней, надеясь, что она просто лишилась чувств. Он перевернул её лицо к свету и отшатнулся.
Она была мертва. Но выглядела она… иначе.
Если Микула, как купец и стражник, был похож на высушенную мумию с пепельной кожей, то женщина выглядела так, словно просто уснула. Бледная, но не иссушенная. Плоть не покинула её.
Зато на груди, прямо напротив сердца, на белой рубахе расплывалось темное пятно. Кровь.
Но самой раны видно не было — ткань не была разрезана ножом или пробита стрелой. Казалось, удар прошел сквозь материю, не повредив её, но убив плоть под ней. И лицо женщины… На нем не было улыбки наслаждения. Оно было перекошено гримасой боли и дикой, запредельной ярости.
Ратибор встал, озираясь. Тени плясали по стенам избы, и ему казалось, что за каждым углом кто-то прячется.
Пятеро.
Ждан, Гойко, Зорян. И теперь эти двое.
Но здесь что-то было не так. Впервые «Змея» убила женщину. И впервые она оставила кровь.
Ратибор сжал рукоять меча до белых костяшек.
Он устроил засаду у реки, как дурак, слушая лягушек, а тварь в это время пировала здесь. Княжеский срок в три дня таял, как снег в печи, а крови становилось только больше. Он стоял посреди чужого двора, вдыхая остатки сладкого аромата, и понимал: он не охотник. Пока что он лишь тот, кто считает трупы.
Глава 13: Двойное убийство
Факел в руке Ратибора трещал, разбрызгивая капли кипящей смолы, но этот земной огонь казался тусклым по сравнению с леденящей картиной, открывшейся перед дружинником. Двор бортника Микулы стал ареной сразу двух смертей, но стоило присмотреться, как становилось ясно: эти смерти пришли с разных сторон света.
Ратибор воткнул факел в вязкую землю между двумя телами и опустился на колени. Сначала он еще раз осмотрел Микулу.
Тут все было знакомо до тошноты. Та же пепельная, похожая на кору старой осины кожа. Те же проваленные ребра, обтянутые сухой плотью. И та же чудовищная, бессмысленная улыбка блаженства на лице человека, из которого высосали жизнь до последней капли. И, конечно, запах. Пряный, сладкий дух южного шафрана и мускуса висел над телом облаком. Зверь был здесь. Зверь соблазнил бортника, вывел его во двор, раздел и «поцеловал».
С этим все было ясно. «Желтая пыльца» и здесь собрала свою жатву.
Но вот женщина...
Ратибор переполз по грязи к телу жены Микулы, которую звали, кажется, Забавой. Она лежала всего в трех шагах от мужа, но казалось, что умерла она в другом мире.
— Не то... — прошептал Ратибор, касаясь ее руки.
Она была холодной, но мягкой. Плоть под пальцами подавалась, мышцы и жир были на месте. Кровь, хоть и застывшая, осталась в венах, а не испарилась, как у мужа. Она выглядела спящей, если бы не лицо — искаженное гримасой ужаса и боли, с открытым в немом крике ртом. Она не знала наслаждения в миг смерти. Она видела что-то, что напугало ее до разрыва сердца.
Ратибор поднес свет ближе к темному пятну на ее рубахе, в районе груди. Крови было немного — темное, почти черное пятно. Он ожидал увидеть разрез от ножа или дыру от стрелы.
Дрожащими пальцами он рванул ворот льняной рубахи, обнажая бледную грудь.
— Матерь Божья... — выдохнул он.
Раны не было. Кожа была целой, не порванной. Но в районе сердца плоть была вмята внутрь, словно в нее с чудовищной силой вдавили невидимый кол или ударили боевым молотом с маленьким бойком. Вокруг вмятины расплывался черно-синий кровоподтек, похожий на паутину.
Ратибор провел ладонью над раной. От нее веяло холодом. Не осенней стынью, а могильным холодом Нави. Волоски на руке встали дыбом.
— Это не Змея, — твердо сказал он самому себе, поднимаясь с колен. — Змея выпивает. Она обнимает, дурманит и сушит. А здесь... здесь был удар. Удар такой силы, что сломал грудину, не порвав рубахи. Как магическое копье.
Он отошел назад, глядя на двор целиком.
Две жертвы.
Один убит сладким ядом и истощением.
Вторая убита грубой, злой, потусторонней силой.
Картина начинала складываться в голове, но от этого становилась только безумнее.
Микула вышел во двор на зов «Змеи». Попал под морок. Вдова (или кто она там) начала свою трапезу.
Забава, жена его, должно быть, услышала шум или вышла следом. Она увидела мужа с другой. Она кинулась спасать его или проклинать разлучницу...
И кто ее убил?
«Змея»? Зачем ей бить магией, если она могла просто «выпить» и ее? Старик Лука говорил, что они едят мужчин, но женщины для них лишь помеха. Могла ли Змея ударить так? Возможно.
Но почему тела лежат так? Микула уже иссушен. Значит, процесс был завершен. А женщина убита одним быстрым ударом, чтобы не мешала?
Ратибор принюхался. Над Микулой висел запах шафрана.
Над Забавой же запаха пряностей почти не было. От нее пахло озоном, как после грозы, и затхлой водой застоявшегося пруда.
— Два охотника, — понял Ратибор, чувствуя, как холод проникает под кольчугу. — Здесь, на этом дворе, сошлись два разных зла. Одно пришло за мужчиной ради голода. А второе пришло за женщиной... ради злобы?
Это было не просто совпадение. Это было столкновение.
Город гнил изнутри. Пока неведомая тварь охотилась на похотливых мужиков, что-то древнее и мстительное подняло голову, пользуясь общей паникой и смутой.
Ратибор вытер руки о траву. Три дня дал ему князь на поимку одного убийцы. А теперь оказалось, что в Полоцке идет война нечисти, и люди в ней — лишь разменная монета и корм.
Он должен был понять, кто нанес этот удар невидимым копьем. Потому что если Змею еще можно было объяснить хищной природой далеких краев, то убийца женщины был местным. Своим. И оттого — втройне опасным.
Глава 14: Вмешательство Волхва
Ждать пришлось недолго, но каждый миг этого ожидания давил на плечи тяжелее кольчуги. Когда из темноты, шаркая посохом, вышел старый Яромил, княжеский волхв, Ратибор едва сдержал вздох облегчения.
Яромил был дряхл, как столетний пень. Его лицо, изрезанное морщинами, скрывалось в тени надвинутого капюшона из волчьей шкуры, а на поясе, перевязанном вервием, глухо побрякивали обереги — куриные боги, сушеные лапки кротов и мелкие звериные черепа. Он не любил людей, и люди платили ему тем же — страхом пополам с уважением.
— Смердит, — каркнул старик вместо приветствия, не доходя до тел десяти шагов. — Чужим смердит. Сладостью гнилой.
Он подошел к трупу Микулы. Ратибор посветил факелом. Волхв не стал наклоняться. Он ткнул сухую грудь мертвеца кривым посохом.
— Выпит, — констатировал он без жалости. — Как яйцо пауком. Это та же сила, что и у реки. Желтая пыльца, южный дурман. Здесь мне делать нечего, воин. Эту тварь я не знаю, и боги мои ее не ведают. Иди к зверям за советом.
Яромил повернулся, собираясь уходить, но Ратибор преградил ему путь рукой.
— Постой, старче. Глянь на бабу. Тут другое.
Волхв недовольно фыркнул, но подошел к телу Забавы. Стоило ему приблизиться, как он изменился в лице. Из дряхлого старика он превратился в гончую, взявшую след. Он втянул воздух ноздрями, резко, со свистом.
— О-о... — протянул он, и голос его стал скрипучим, как несмазанная телега. — А вот это наше. Родное. Черное.
Он опустился на колени прямо в грязь, не жалея шкур. Его узловатые пальцы пролетели над грудью убитой женщины, не касаясь кожи, там, где незримый удар остановил сердце.
— Холод, — прошептал Волхв. — Ледяной кулак Нави. Ударили не злобой, а завистью. Ударили так, что душу вышибли, даже не порвав рубахи.
— Кто? — спросил Ратибор. — Та же, что и мужа убила?
— Нет, — Волхв резко встал. — Та, «сладкая», убивает ради еды. А эта убила, потому что помеха была. Или потому что увидела свое, желанное.
Старик резко развернулся и, не говоря ни слова, двинулся к распахнутой двери избы. Ратибор поспешил за ним, держа факел высоко.
Внутри было тихо и страшно. Тени метались по бревенчатым стенам, выхватывая нехитрый крестьянский быт: печь, лавки, опрокинутый горшок с кашей. Но Волхв смотрел не на беспорядок.
Он подошел к центру горницы, где под потолком, на очепе (гибкой жерди), висела плетеная колыбель.
Она покачивалась. Едва заметно, словно ее толкнули совсем недавно.
Яромил сунул руку внутрь.
Пусто.
Там было лишь скомканное одеяльце. Ребенка не было.
Волхв медленно вынул руку и обернулся к Ратибору. Глаза старика в свете факела горели недобрым, потусторонним светом.
— Сладкая Смерть забрала мужика, потому что хотела жрать, — прохрипел Яромил. — А потом она ушла. Ей не нужны бабы и дети. Но на этот двор пришло и другое. То, что шло следом. Или то, что привлек запах смерти.
— Два убийцы? — Ратибор почувствовал, как холодок бежит по спине. — Сговорились они, что ли?
— Нет, — покачал головой Волхв. — Одна наследила, открыла дверь в Навь, а вторая в эту дверь вошла. Посмотри сюда.
Он указал посохом на пол у колыбели. Там, в пыли, виднелись влажные следы. Но не слизь, а вода. Обычная, грязная вода, смешанная с тиной. Следы босых женских ног.
— Убийца мужчины ушел в лес. А убийца женщины забрал дитя.
Ратибор оцепенел.
— Зачем ей ребенок? Сьесть?
— Нет, — Волхв тяжело вздохнул, и в этом вздохе была вся тяжесть мира. — Съесть — это просто. Зверь ест и спит. А тут... Тут горе, парень. Черное, беспросветное бабье горе.
Старик обвел взглядом темные углы избы.
— Здесь осталась иная сила. Сила, которая не знает покоя. Тот, кто забрал дитя, не хочет убивать. Она хочет... иметь. Она хочет вернуть то, что потеряла. И поверь мне, дружинник, мертвая мать, ищущая дитя, страшнее любой заморской твари. Ищи там, где плачут.
Ратибор сжал зубы. Вместо одной загадки он получил две. Младенец был похищен. И теперь, пока он гоняется за любительницей шафрана, где-то в ночи бродит безумный дух с чужим ребенком на руках.
Проект «Феникс» : Глава 2 "Чистая доска"
Тишина в палате была не естественной, а призрачно-пустой, выкачанной, словно воздух в вакууме. Она давила на барабанные перепонки густым, вязким гудением, в котором, если прислушаться, угадывался отдалённый, монотонный гул того же нейростимулятора, теперь работавшего в режиме стабилизации. Тусклый свет монитора дефибриллятора давал обзор на свисавшую с койки руку Агонии и нежно поглаживавшую её - руку нейрохирурга.
Клиника «Neues Leben» (нем.), — с холодной удовлетворённостью подумал он . Место, отрезанное от прошлого. Нулевая точка. Отсюда и начнётся отсчёт её новой жизни. Нашей жизни.
Его тень, длинная и уродливо искорёженная светом того же монитора , на мгновение накрыла Агнию, словно крыло хищной птицы. Он не сел, а скорее воссел в кресло у изголовья — высокий, прямой, властный. Его взгляд, лишённый теперь необходимости скрывать голод, медленно, с наслаждением, скользил по её лицу, по линиям шеи, угадываемым под одеялом контурам плеч. В голове снова пронеслось: "Материал. Безупречный, податливый материал."
На тумбочке, в луче света, лежало нечто большее, чем медицинская карта. Это был том. Тяжёлая, переплетённая кроваво-алой кожей книга, на корешке которого серебром был оттиснут номер «03» и тот же символ — птица в клетке. Его досье. Его Агния. Он не стал его открывать. Он помнил. Каждая страница, каждая строчка, каждый клочок информации были выжжены в его сознании с той же безжалостной точностью, с какой нейростимулятор строил нейронные связи.
Имя: Агния Коваль.
Возраст: 28.
Звание: капитан медицинской службы.
Состояние при поступлении: глубокая диссоциация, мутизм, психогенные галлюцинации…
Прогноз: безнадёжен.
Его губы, тонкие и бледные, дрогнули в подобии улыбки. Безнадёжен для них. Для серых, бездарных ремесленников от психиатрии. Для него же это был сияющий диагноз — tabula rasa (лат.). Чистая доска.
И он, Отто Шварц, был тем, кто напишет на ней новый текст. Её текст. Вернее, их текст. Он знал её старую, ненужную биографию до мелочей. Не потому что лечил, а потому что изучал. Собирал по крупицам, как археолог сметает пыль веков с древней реликвии. Официальные отчёты, рассекреченные характеристики, обрывочные свидетельства сослуживцев… И то, что было дороже всего — её цифровые следы. Фотографии, где она смеялась, зажмурившись от солнца (дата: 12 июля, место: озеро Лахер-Зе). Списки книг, которые она хотела прочесть. Любимый парфюм — «TOM FORD Tabacco Vanille». Он даже знал, где и когда она его купила: 3 октября, GoldApple, Париж. Он знал вес её тела, родимое пятно, отдалённо напоминающее огонь, на правом боку между 8 и 9 рёбрами, рубец на левом колене, оставшийся с семи лет. Он знал всё. Это знание сжимало его горло сладким, удушающим восторгом. Он был не врач. Он был демиург, держащий в руках не пациента, а саму сущность, растворённую в тысяче разрозненных фактов, которые только он мог собрать в новое, ослепительное целое.
Он представил завтрашний день. Первый сеанс. Он не станет торопиться, не полезет грубо в ещё кровоточащие раны памяти. Нет. Он начнёт с малого. С создания фундамента. С внедрения первой, крошечной лжи, которая станет краеугольным камнем всей новой реальности. Но его мысли прервал тихий, жалобный стон девушки..
Проект «Феникс»: Глава 1 "Агония"
Холодный, стерильный свет безжалостно выхватывал из полумрака операционной лицо Отто Шварца. Лампы над ним гудели, отбрасывая резкие тени на металлические поверхности инструментов и безжизненно-белую простыню кушетки. Психиатр, архитектор новой реальности.. Отто чувствовал, как пульсирует в висках не просто монотонный гул нейростимулятора, а зловещая, гипнотическая музыка грядущего триумфа. Он не сопротивлялся этому зову — он ждал. Ждал этого момента. Момента своего успеха и своей победы.
Ждал пробуждения Агнии. Бывшая военная медсестра, имя которой словно эхом отдавалось в пустых коридорах его воспоминаний. Отто помнил её прежнюю, когда в венах юной леди текла горячая, желающая победы своей стране, кровь, а в глазах горел тот самый огонь непокорности, что для него стал лишь искрой, разжёгшей пламя одержимости. Он видел в ней не просто пациента, не просто «сломанную героиню», а недостижимый идеал, который теперь, по его воле, безвольно лежал перед ним. Её тело, некогда неприступное, неприкосновенное, теперь было податливым, словно пластилин, материал, готовый принять новый, придуманный им образ. Воспоминания о прежней отстранённости, ледяном взгляде, что никогда не задержался бы на нем в здравом уме, терзали Отто с той самой болезненной страстью, которая и привела его сюда. Ему было недостаточно её присутствия, уважения или даже жизни. Он жаждал не просто её внимания, но и полного, абсолютного подчинения, её зависимости – той безграничной, слепой привязанности, которая могла родиться только из бездны собственного отчаяния, им же и созданного.
Проект «Феникс» – «Возрождение морально мёртвых» путём стирания травм (замены воспоминаний или стирание их)
Принцип работы нейростимулятора основан на уязвимости памяти. Известно, что когда травматическое воспоминание активно всплывает в памяти, оно на короткое время становится "лабильным" – нестабильным и восприимчивым к изменениям. В этот момент стимулятор целенаправленно воздействует на нейронные связи, отвечающие за это воспоминание. Он может подавлять их активность, разрушать или искажать сигнал, не давая памяти закрепиться в прежнем виде. Таким образом, психиатр способен не только стереть болезненные фрагменты прошлого пациента, но и, возможно, заменить их на ложные воспоминания или изменить эмоциональную окраску, создавая новую, подконтрольную ему реальность.
Лечение посттравматического стрессового расстройства, благородная миссия спасения. Но для Отто это была лишь искусно сплетённая сеть идей и планов, мрачная амбиция: стереть прошлое Агнии, разбить в пыль её воспоминания, чтобы на их обломках вписать их общее, искажённое будущее. Будущее, где она будет принадлежать только ему, зависимая, сломленная, безвольная, как и он сам был зависим от этой идеи, от этого безумного замысла, что поглотил каждую фибру его существа.
Он отворил тяжёлую дверь и вошёл в палату. Звук его шагов эхом разнёсся по помещению, но не привлёк никакого внимания — Агния была слишком глубоко погружена в медикаментозный сон. Белый халат скрывал не только его решимость, но и всю глубину его одержимости, весь изъеденный безумием ум. Подойдя к кушетке, Отто склонился над ней. Близость её лица, едва уловимый аромат её кожи, смешанный с едким запахом дезинфицирующих средств и лёгкой сладостью анестезии, пьянили его сильнее любого элитного вина. Он чувствовал её дыхание – ровное, спокойное, обманчивое. Он ждал, когда она откроет глаза, когда её сознание вернётся в этот мир, искажённое и уязвимое. Он знал, что она ждёт утешения, заботы и спасения. Но для него это был лишь первый акт тщательно продуманного спектакля. Глядя на бледное лицо свысока в больной «любовью» голове пронеслась мысль: "Теперь не важно, что ты чувствовала и думала, теперь твоя жизнь станет только моей.. Больше никто не посмеет тронуть тебя, а ты не посмотришь ни на кого.. Ни на кого, кроме меня. Ты забудешь все и я смогу создать для тебя идеальный свой образ. Считай меня любящим и добрым, держись за меня.. А я буду использовать тебя для всего, что только подумаю. Наслаждайся моим вниманием, стань верной сукой на поводке..- теперь ты - моя."
Глаза Агнии медленно распахнулись. Прежняя ледяная ясность, стальная воля – все это исчезло, сменившись туманом замешательства, пронзительной пустотой, сквозь которую, как тонкие нити, проглядывала только что рождённая боль. Отто едва заметно, хищно улыбнулся, восхищаясь своим проектом.
— Всё позади, Агния, — сказал он, и его голос был идеальным: тёплым, бархатным, пронизанным профессиональной уверенностью. — Добро пожаловать назад.
Он взял её руку. Его пальцы обвили тонкое запястье — не хваткой, а словно поддерживая. Он ощутил, как по телу пациентки прошла едва заметная дрожь, слабый отголосок прежнего «я», уходящий в никуда. В распахнутых зрачках Агонии, мутных от наркоза и нейролептиков, он видел лишь собственное отражение — искажённое, увеличенное, как в кривом зеркале, но уже единственное.
— Отдыхайте, — прошептал он, глядя, как веки её снова тяжелеют, навсегда закрывая от мира ту самую ясность, что сводила его с ума. — Завтра начнётся ваше настоящее возвращение.
Он выключил центральный свет через пульт управления его телефона. В полумраке операционной её лицо казалось высеченным из бледного, безжизненного воска. Его шедевр. Его Феникс.