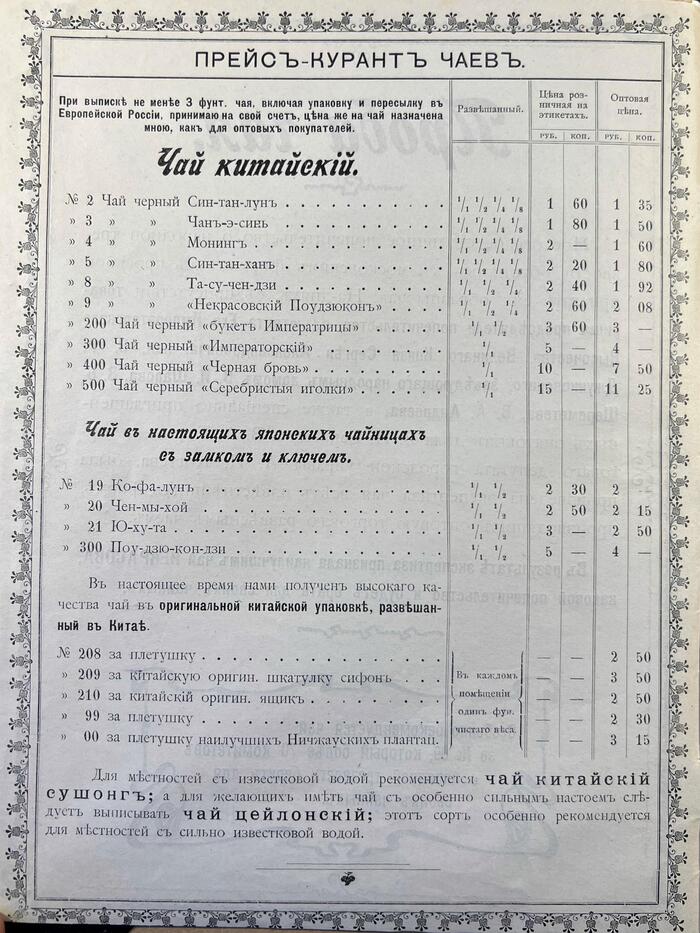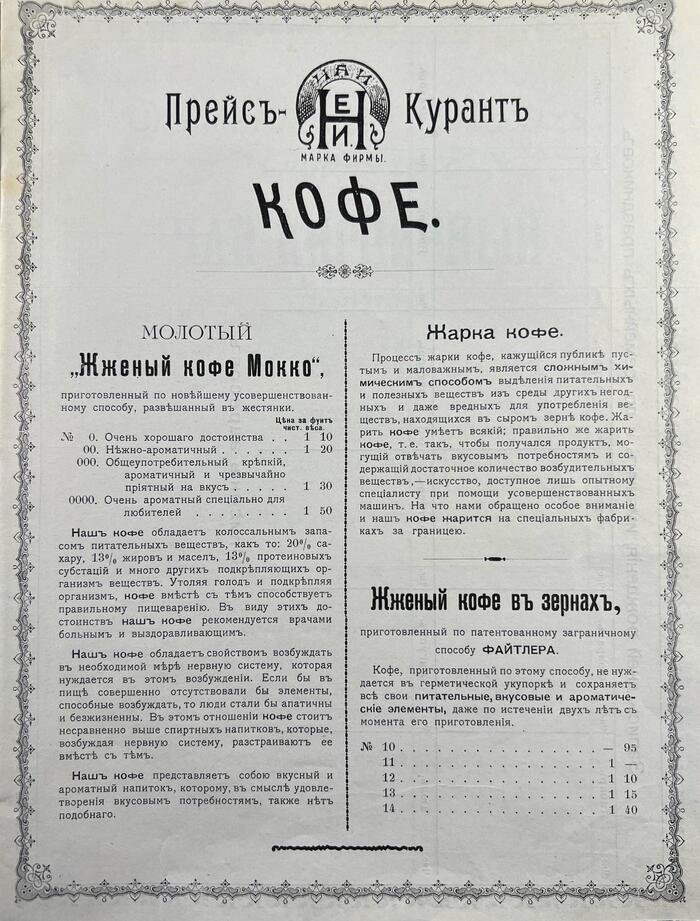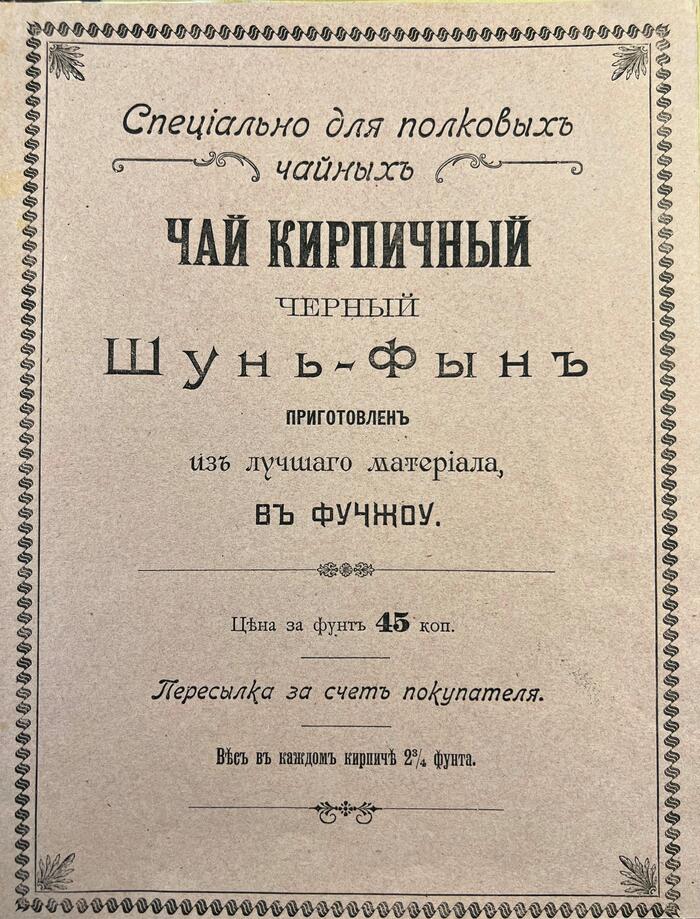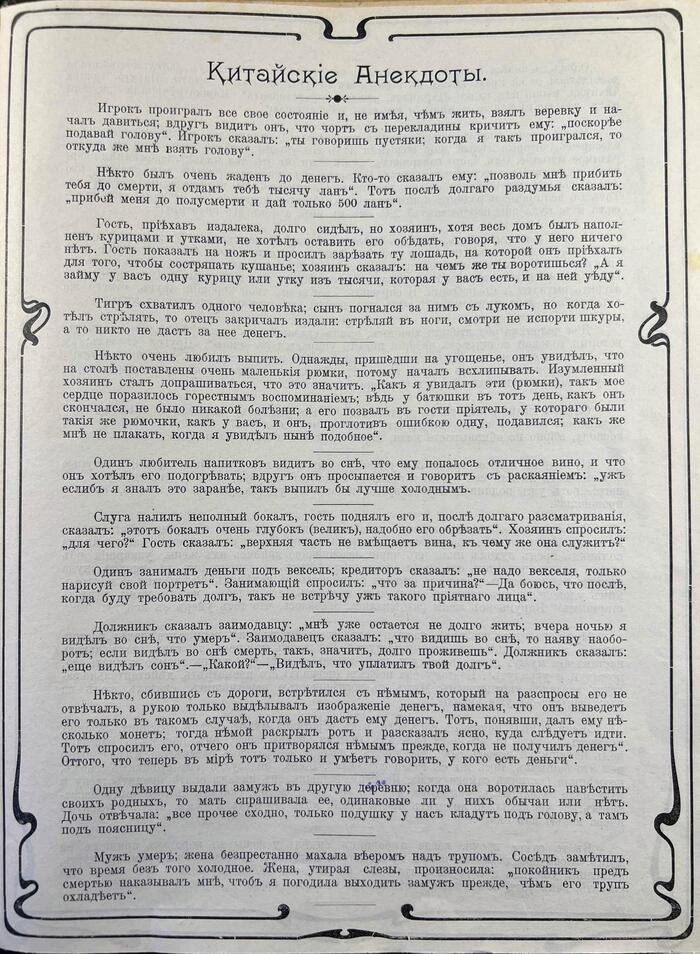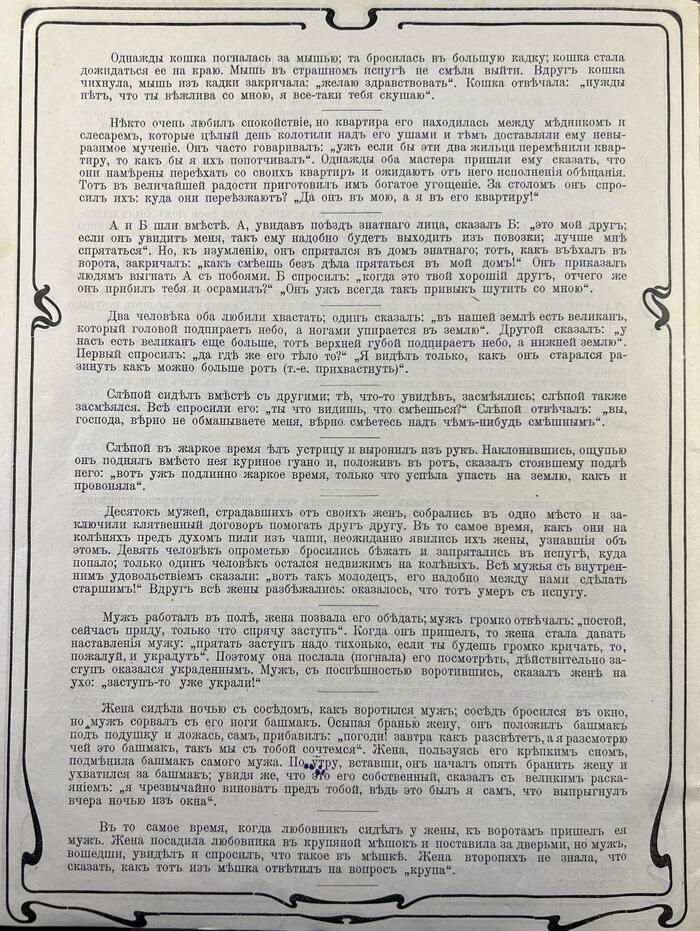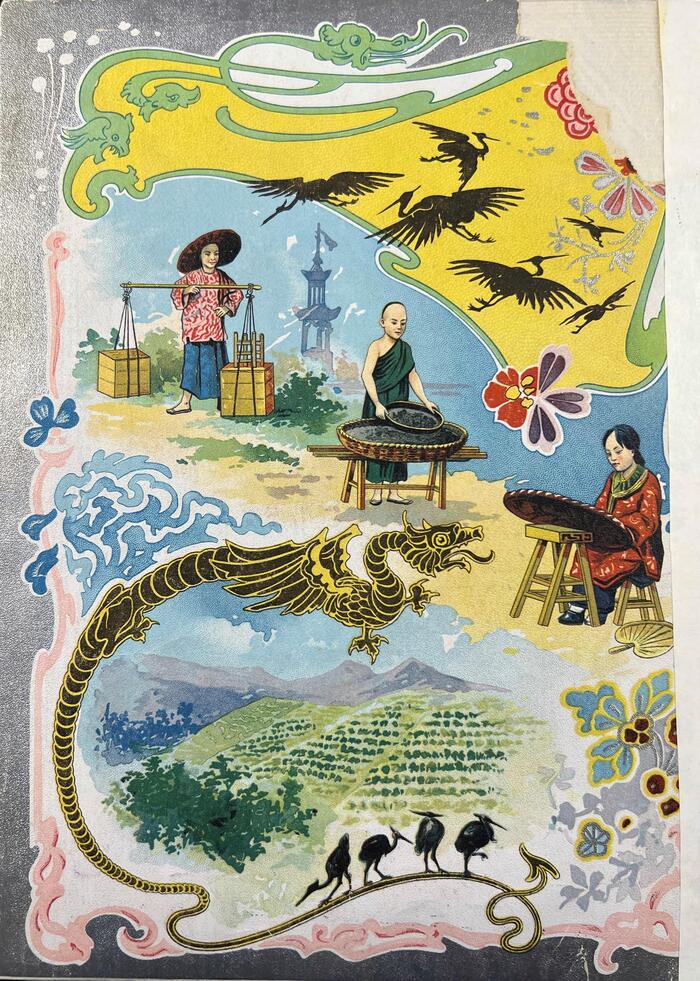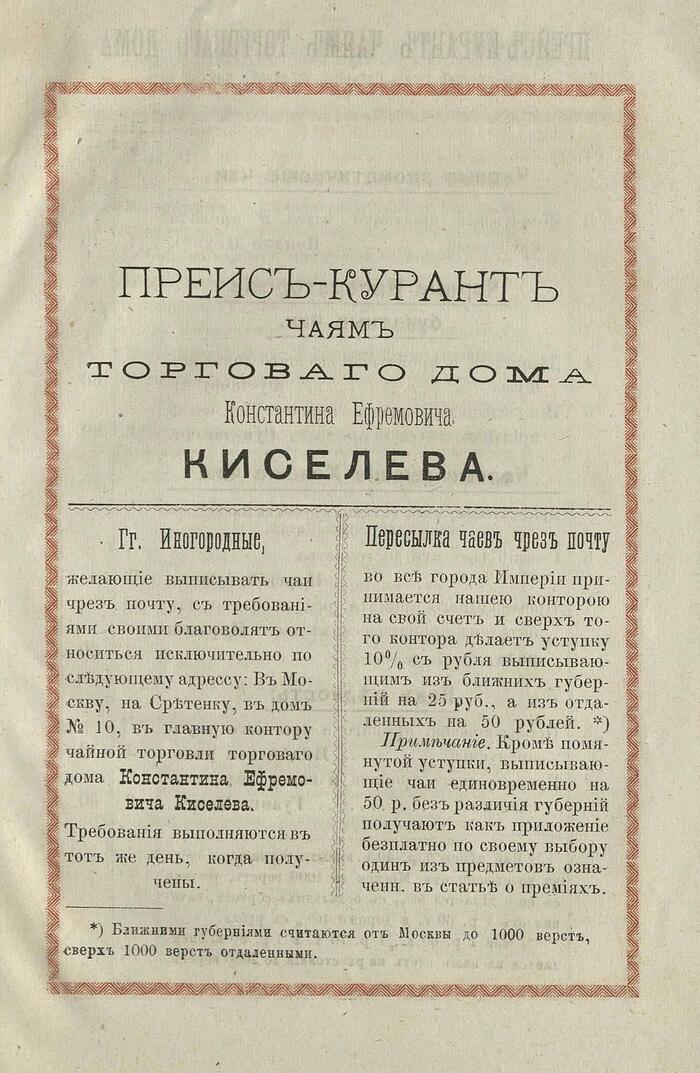Вера Игнатьевна, которая спасла десятки жизней от гнили и воспаления, чувствовала себя неловко от этой искренней благодарности за… сватовство.
— Я очень рада за вас, — сказала она, улыбнувшись. — Значит, моя приёмная работает не только как клиника, но и как брачное агентство.
— Она у вас, доктор, на все руки, — подытожил Степан, и они ушли, оставив Веру Игнатьевну с удивительным ощущением: посреди смерти, пожаров и бюрократии её присутствие каким-то нелогичным образом породило любовь. Однако, тут стоит сделать небольшое отступление. Если бы в эту минуту Вера Игнатьевна вышла проводить влюбленную пару взглядом, то наткнулась на преизрядно интересную сцену. Проходя мимо несшей коромысло с ведрами женщиной, Степан как-то неловко и неестественно засмеялся на реплику Дарьи, а сама женщина едва вздрогнула и ускорила шаг. Если бы Вера Игнатьевна не осталась пить чай, то эта сцена могла бы предотвратить дальнейшую трагедию, но чего не случилось, того не случилось.
Вера сидела ещё минуту, держа чашку чая, и думала: «Вот оно, странное равновесие. Одни умирают, другие женятся. Одни пишут жалобы, другие благодарят. И всё это — в одной избе», — но радость длилась недолго. В тот же вечер, когда она перевязывала ожоги китайским пленным, привезли пациента из Отрадного.
Это был третий случай. Мужик, молодой, сильный, с руками, привыкшими к топору и сохе. Те же симптомы, что и у Матрёны, и у того рабочего, который умер: лихорадка, невыносимая головная боль, мучительная тошнота и быстрое, необъяснимое угасание.
Вера Игнатьевна, склонившись над ним, почувствовала, как её профессиональный страх превращается в холодную уверенность. Это было не совпадение. Это был паттерн. Болезнь не выбирала слабых или старых. Она брала тех, кто был в силе, кто мог жить ещё десятки лет.
Она дала ему всё, что могла: хинин, холод, компрессы. Игнат, который уже не задавал лишних вопросов, стоял рядом, держа свечу. Его лицо было неподвижным, но глаза следили за каждым её движением.
— Игнат, — тихо сказала она. — Я не знаю, что это, но это не обычная болезнь.
— Ты спасала, Вера Игнатьевна. Спасаешь и сейчас, — прошептал он, не отводя взгляда от пациента.
Она знала: она не спасёт его. У неё не было правильной сыворотки, не было правильного диагноза. Был только один доктор, один помощник и три случая, раскиданных по разным деревням.
Вера Игнатьевна, несмотря на радость от обручения Степана и Дарьи, несмотря на то, что амбар удалось спасти, почувствовала себя совершенно одинокой. Вокруг неё, невидимая для губернатора и старост, медленно, но верно, расцветала неведомая болезнь.
Она слышала её дыхание в кашле крестьян, видела её тень в глазах пленных, чувствовала её запах в поте и жаре больных. Болезнь была рядом, как невидимый зверь, который уже выбрал Заречье своей территорией, и ей нужно было срочно найти способ борьбы с ней, пока бюрократия писала свои запросы, а люди женились. Пока село жило своей обычной жизнью, болезнь уже писала собственный сценарий. Этот сценарий был куда страшнее, чем жалобы родственников Акулины или подозрения старосты.
Судебный следователь, господин Ветров, приехал не на тройке и не с целой свитой, как ждала бы провинциальная драма, а на простой крестьянской телеге. При нём был писарь — маленький, бледный человек с несчастным видом, который явно предпочёл бы быть где угодно, только не здесь. Его руки дрожали, когда он доставал чернильницу и перо, словно сама мысль о том, что придётся фиксировать чужую беду, была для него мучением.
Ветров был педант. И, что хуже, — идеалист. Он исповедовал принцип гласного суда и, судя по всему, верил, что каждое дело, даже самое грязное и деревенское, должно быть разобрано с той же скрупулёзностью, что и крупное убийство в столице. Он был похож на плохо нарисованного персонажа: идеально чистые сапоги, небольшой портфель и очки в тонкой оправе, которые делали его похожим на насекомое, тщательно изучающее почву.
Он сразу же приступил к делу, не позволив Вере Игнатьевне даже предложить чай. Его голос был сухим, поставленным, словно он читал лекцию студентам, а не разбирал судьбу деревенской женщины.
— Итак, Вера Игнатьевна, — начал он, разложив бумаги на обеденном, то есть операционном, столе, — мы имеем заявление родственников покойной Акулины Кузьминой. Они утверждают, цитирую: «Доктор В. И. Бельских, разрезав живот нашей Акулине, не зашила его как следует, отчего она и померла». Ваша позиция по существу предъявленного обвинения.
Вера Игнатьевна чувствовала, как вся её европейская выдержка начинает крошиться. Это была не медицина. Это была бюрократическая казуистика, обёрнутая в деревенское невежество. Она знала: каждое слово будет записано, каждое движение истолковано.
— Моя позиция, господин следователь, заключается в том, что покойная обратилась ко мне с прободной язвой желудка, — начала она, стараясь говорить максимально академично. — Это состояние, угрожающее жизни, требующее немедленного хирургического вмешательства.
— Язва, — педантично повторил Ветров. — Это научный термин, а простыми словами?
— Простыми словами: стенка желудка прогнила, содержимое попало в брюшную полость, вызвав перитонит. Без операции она бы умерла в любом случае.
Ветров поднял палец, словно дирижёр, останавливающий оркестр.
— Акулина Кузьмина не умерла «в любом случае». Она умерла после вашего вмешательства. Прошу вас, не уходите от обстоятельств. Сколько времени прошло с момента, как она почувствовала себя дурно, до того, как вы её оперировали?
Вера Игнатьевна посмотрела на Игната, который стоял у печи, хмурый и молчаливый. Он всё понял. Его взгляд был тяжёлым, но поддерживающим: он знал, что сейчас каждое слово Веры — это её защита.
— По её собственным словам, господин следователь, неделя. Неделю она слушала советы местной знахарки Евдокии, которая лечила её... ну, травами.
— И вы считаете, что это обстоятельство, — Ветров кивнул на писаря, который тщательно записывал каждое слово, — снимает с вас ответственность за летальный исход?
Вера Игнатьевна закрыла глаза на секунду. Этот человек не понимал. Он не видел гноя, не чувствовал запаха. Он видел только последовательность событий. Для него смерть была строкой в протоколе, а не криком в избе.
— Моя операция, господин следователь, — Вера Игнатьевна вновь открыла глаза, — была проведена технически безупречно в данных условиях. Я провела резекцию желудка и гастроэнтероанастомоз. Это было последнее, что можно было сделать. Увы, у Акулины Кузьминой уже была третья стадия перитонита. Моя работа заключалась в попытке зашить повреждение и убрать источник заражения, но токсический шок был уже необратим.
Ветров записывал что-то в свой блокнот. Он выглядел почти довольным. Наконец-то, сложные медицинские термины, которые можно было использовать в протоколе! Писарь скрипел пером, словно фиксировал не слова, а приговор.
— Очень хорошо, Вера Игнатьевна, — он поднял голову. — Для установления полной ясности и ввиду наличия конфликта показаний, я вынужден назначить судебно-медицинскую экспертизу.
Название прозвучало, как приговор. Судебно-медицинская экспертиза. В Заречье.
— И кто, позвольте узнать, будет проводить эту экспертизу? — спросила Вера Игнатьевна, пытаясь скрыть дрожь в голосе.
— Будет приглашён уездный врач из Вереи. Он изучит труп, ваш протокол (если таковой имеется) и ваши инструменты. Всё должно быть гласно и объективно.
Он обвёл глазами комнату: обеденный стол, на котором она только что спасала жизнь, закопчённые стены, керосиновая лампа. В этом месте гласность и объективность выглядели особенно нелепо.
— Я, конечно, понимаю, как это неприятно, — сухо добавил Ветров, собирая свои бумаги, — но закон есть закон, а без закона, Вера Игнатьевна, мы скатываемся к знахарству. К чему, собственно, и привела госпожа Евдокия вашу пациентку.
В этой последней фразе была вся ирония. Он верил, что спасает её от обвинений, но сам загонял в угол: её спасение зависело теперь от решения другого, возможно, не менее невежественного, уездного врача.
Игнат тихо кашлянул, словно хотел сказать что-то, но промолчал. Вера почувствовала, как её руки дрожат. Она знала: впереди её ждёт не медицинская работа, а борьба за право называться врачом.
Вскрытие было назначено в той же самой избе. Запах карболки смешивался с запахом сырости и старого дерева. Ветров стоял рядом с блокнотом, его очки блестели от волнения: наконец-то, научная драма! Писарь, бледный и нервный, то и дело ронял капли чернил на бумагу, будто его рука сама дрожала от страха перед чужой смертью. Игнат, которого попросили ассистировать (держать, поднести, отойти), стоял, как глыба, молча и неподвижно. Вера Игнатьевна наблюдала. Она чувствовала себя студентом на самом унизительном экзамене, где каждый её жест мог стать уликой.
Остроумов работал быстро и неаккуратно. Его руки были большими и грубыми, движения — резкими, почти ленивыми. Он вскрыл разрез, который Вера Игнатьевна сделала с такой тщательностью, и осмотрел швы. Она слышала, как её сердце стучит в ушах, каждый удар отдавался в висках.
— Так-с, — пробурчал Остроумов, даже не посмотрев на неё. — Шов, надо признать, наложен, каким-то образом.
Он исследовал содержимое брюшной полости. Гной, признаки обширного воспаления. Это была история болезни Акулины, написанная на языке распада.
— Вот, господин следователь, — Остроумов ткнул пальцем в потемневший участок. — Прободение и, разумеется, перитонит. Обширный. Старый. Недельной, а то и большей, давности. Сразу видно, что лечили не доктора, а что-то другое.
Ветров заметно оживился. Это было доказательство против Евдокии! Закон торжествует! Писарь торопливо скрипел пером, фиксируя каждое слово, словно боялся упустить момент истины.
— Это очень важно, доктор! Значит, смерть наступила…
— Смерть, господин следователь, — перебил Остроумов, выпрямляясь и вытирая руки о поданное Игнатом полотенце, — наступила, как это обычно бывает при подобных запущенных случаях, от острой сердечно-сосудистой недостаточности на почве сепсиса.
Он посмотрел на Веру Игнатьевну — быстрым, ничего не выражающим взглядом.
— Иными словами, от общего заражения крови, вызванного перитонитом.
Это было ровно то, что Вера Игнатьевна знала и говорила. Она почувствовала мимолётное, почти сэлинджеровски чистое облегчение. Её диагноз верен. Знахарка виновата, но Остроумов ещё не закончил. Он подошёл к столу Ветрова, где писарь уже приготовил бумагу. Он взял перо и склонился над заключением. Ветров, с выражением абсолютного триумфа на лице, ждал подписи.
Остроумов подписал основную часть, потом отступил, задумался на секунду и добавил приписку. Он говорил, диктуя, не глядя ни на кого.
— Однако, я должен отметить в протоколе, что смерть ускорена в результате хирургического вмешательства, методика которого не является общепринятой.
Вера Игнатьевна почувствовала, как к горлу подкатывает приступ дикого, довлатовского смеха. Она не была уверена, что ей хочется плакать или просто стукнуть этого человека головой о стол.
— Простите, — она шагнула вперёд. — Какая методика не является общепринятой?
Остроумов, не отрываясь от пера, процедил:
— Анастомоз по Ру, сделанный в условиях грязной деревенской избы, с использованием керосиновой лампы в качестве освещения и при отсутствии надлежащих ассистентов. Вы делали резекцию желудка в условиях, где единственно оправданной была бы простая лапаротомия и дренаж, чтобы дать пациенту хоть какой-то шанс дожить до утра.
— Шов технически наложен правильно, но вы, Вера Игнатьевна, слишком хорошо оперируете для этой деревни. Вы использовали метод, пригодный для Цюриха, на пациентке, которую уже убила Евдокия. Это не преступление. Это дефект методики и это будет в протоколе.
Ветров, у которого лицо только что светилось от торжества, теперь выглядел озадаченным. Смерть от сепсиса — это хорошо, но «не общепринятая методика» — это плохо. Закон гласил, что всё должно быть по правилам, а тут…
Остроумов захлопнул портфель, будто закрыл неприятную главу.
— С меня всё. Смерть от сепсиса. С примечанием о методе. Ваш ход, господин следователь.
Он уехал так же быстро, как и приехал, оставив Веру Игнатьевну посреди её «операционной» с этой странной формулировкой: «технически безупречный» шов, ставший «дефектом методики» из-за того, что она слишком много знала и слишком сильно хотела спасти.
Игнат подошёл ближе, положил руку на стол, словно хотел удержать её от порыва.
— Вера Игнатьевна, — сказал он тихо, — в Заречье нельзя быть слишком хорошим. Здесь за знание судят строже, чем за невежество.