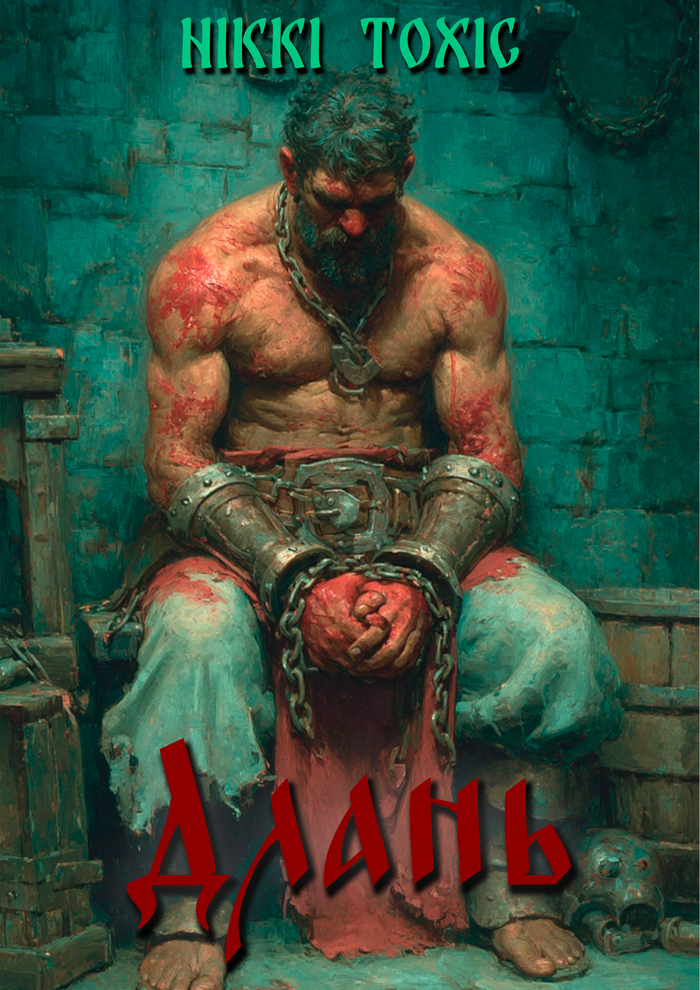Метель началась во вторник.
Я отметил это с некоторым удовлетворением — вторники, как известно, теперь имеют обыкновение существовать стабильно, и каждый новый вторник был маленьким личным триумфом. После того как пришлось буквально воскрешать их из небытия, я относился к этому дню недели с особым трепетом. Вторник означал, что время течёт правильно, что Элиас Темпус исправно заводит Городские Часы, что мир на своём месте.
Снег повалил около полудня — сначала робко, отдельными снежинками, а к вечеру превратился в настоящую бурю. Хлопья размером с блюдце кружились в безумном танце, ветер завывал в трубе, словно недовольный призрак, а мир за окнами западного крыла моей библиотеки превратился в сплошную белую мглу.
Я устроился в своём любимом кресле — малиновом бархатном, стёртом до розового в некоторых местах, с подлокотниками, исцарапанными когтями за долгие годы эмоционального чтения. Камин пылал жарко, отбрасывая оранжевые блики на корешки книг. На столике рядом стоял поднос с серебряным чайником, источающим божественный аромат бергамота, фарфоровой чашкой и — разумеется — хрустальной вазочкой с зефирками.
Розовыми. Только розовыми.
В руках у меня был том Диккенса — "Большие надежды", издание 1861 года, с пожелтевшими страницами и лёгким запахом ванили, который приобретают старые книги. Пип только что встретил странную мисс Хэвишем в её доме-призраке, и я, как всегда, сочувствовал мальчику. Дома с привидениями и эксцентричными женщинами в свадебных платьях никогда не предвещали ничего хорошего.
Я отхлебнул чаю — идеальная температура, как раз начал остывать до того состояния, когда можно пить, не обжигаясь, но ещё достаточно горячий, чтобы согревать. Отправил в рот зефирку. Перевернул страницу.
Где-то далеко ухала сова — обычная, не антропоморфная, просто птица, недовольная погодой. Часы на каминной полке отсчитывали секунды размеренным тиканьем. Огонь потрескивал, выбрасывая искры.
Идеальный вечер для библиотекаря.
За два столетия существования я научился ценить такие вечера. Тишина, книги, чай, метель за окном. Никаких приключений, никаких исчезающих дней недели, никаких путешествий в параллельные миры. Только я, Диккенс и уверенность в том, что завтра утром мир будет таким же, каким был сегодня.
Я допил чай и потянулся к чайнику, чтобы налить ещё.
За окном что-то стукнуло.
Не ветка, сорвавшаяся под тяжестью снега. Не ставня, которую сорвало ветром. Стук. Целенаправленный. Настойчивый. Три раза подряд.
Я поднял голову, прислушиваясь. Метель выла. Огонь шипел. Часы тикали.
Снова стук. Три удара. Тук-тук-тук.
Я отложил книгу, аккуратно вложив закладку — варварство загибать уголки страниц — и поправил монокль. Подошёл к окну. Стекло было покрыто узорами изморози, сквозь которые виднелась только белая пелена метели.
Я протёр стекло рукавом плаща — оранжевый шёлк оставил влажный след — и заглянул наружу.
На подоконнике, прижавшись к стеклу, сидела кошка.
Я моргнул. Потом ещё раз.
Это была не обычная кошка. Я узнал бы этот серый дымчатый мех, эти очки в тонкой оправе, это строгое библиотечное платье викторианской эпохи где угодно.
Сердце ухнуло вниз. Кошка сидела неподвижно, покрытая снегом и льдом, платье было разорвано в нескольких местах, очки треснуты, а из-за стекла на меня смотрели огромные янтарные глаза, полные отчаяния.
Я рванул к окну, сбивая на ходу вазочку с зефирками — они покатились по полу, но мне было наплевать. Сдёрнул засов, распахнул створку.
Ледяной ветер ворвался в библиотеку с рёвом разъярённого зверя. Снег закружился внутри, залетая на книги, на стол, на пол. Бумаги сорвало со стола — они понеслись по комнате белыми птицами. Пламя в камине вспыхнуло сильнее от притока воздуха.
А мадам Цитата, библиотекарь из Города Между-Часами, существо, состоящее из чужих слов, медленно — очень медленно — наклонилась вперёд и рухнула с подоконника прямо мне в лапы.
Не просто холодной — ледяной. Смертельно холодной. Температуры, при которой не выживают. Мех покрыт инеем, который хрустел под пальцами. Лапы безжизненно повисли. Тело было жёстким, словно она уже начала замерзать насмерть.
— Нет-нет-нет, — бормотал я, захлопывая окно свободной лапой. — Держитесь. Держитесь, мадам. Всё будет хорошо. Клянусь всеми библиотеками мира, всё будет хорошо.
Я прижал её к груди — она была такой лёгкой, слишком лёгкой, словно половина её веса осталась там, в метели — и бросился к камину. Упал на колени перед огнём, всё ещё держа её на руках.
Она не шевелилась. Не открывала глаза. Только губы беззвучно шевелились, пытаясь что-то сказать, но звука не было. Дыхание — едва различимое, поверхностное.
— Говори со мной, — я гладил её по голове, пытаясь растереть замёрзшие уши. — Процитируй что-нибудь. Кого угодно. Буцефала, если надо. Только не молчи.
Я осторожно снял с неё очки — одна линза была разбита вдребезги, оправа погнута. Отложил их на стол. Начал стягивать мокрое платье — оно прилипло к меху, пропитанное ледяной водой. Пальцы дрожали. Платье было разорвано в нескольких местах, словно она продиралась сквозь что-то острое.
Сквозь что она шла? Как долго? И главное — зачем?
Я снял свой оранжевый плащ — единственное тёплое, что было под рукой — и завернул её в шёлк. Подвинул ближе к огню, но не вплотную. Резкий перепад температур мог быть опасен, это я знал. Нужно отогревать постепенно.
Её тело дрожало. Мелкая, частая дрожь — хороший знак. Значит, организм ещё борется.
— Вот так, — бормотал я, продолжая растирать лапы, уши, разминать застывшие мышцы. — Борись. Ты существо из слов, а слова не умирают так просто. Они выживают. Передаются. Помнятся.
Я вскочил, метнулся на кухню. Вскипятил воду — чайник свистнул истерично. Заварил чай, обычный чёрный, крепкий. Добавил щедрую ложку мёда, щепотку имбиря, каплю бренди из запасов для особых случаев. Это определённо был особый случай.
Вернулся к камину. Мадам Цитата всё ещё дрожала, завёрнутая в оранжевый шёлк. Губы по-прежнему шевелились беззвучно.
Я опустился рядом, приподнял её голову, подставив свою лапу, и поднёс чашку к губам:
— Пей. Медленно. По глоточку. Не торопись.
Она сделала крошечный глоток. Закашлялась — слабо, но это был звук, первый звук с момента, как я нашёл её. Ещё глоток. Кашель. Ещё.
Постепенно дыхание начало выравниваться. Дрожь становилась менее интенсивной.
Я сидел, держа её и чашку, периодически поднося чай к её губам. Огонь грел. Часы тикали — прошло десять минут, двадцать, полчаса. За окном метель бушевала с прежней силой, но здесь, у камина, было тепло и почти безопасно.
Наконец дрожь утихла совсем. Дыхание стало ровным, глубоким. Тело расслабилось.
Мадам Цитата открыла глаза.
Огромные, янтарные, усталые — но живые. Она посмотрела на меня. На камин. На библиотеку вокруг. На чашку в моих лапах.
Губы шевельнулись. Голос прозвучал хрипло, еле слышно, но это был голос:
— «Наверное, нет. Не так, как люди, которые всю жизнь прожили в одном месте. Но мы будем немного дома во многих местах». Джудит Керр, «Когда Гитлер украл розового кролика».
Я выдохнул с таким облегчением, что чуть не уронил чашку.
— Добро пожаловать домой, мадам, — сказал я, и голос предательски дрожал. — Хотя технически это мой дом, но... детали. Сейчас вы дома. В безопасности.
Я помог ей сесть, подложил подушки с дивана. Накрыл пледом — тяжёлым, шерстяным, который обычно использовал для чтения в особо холодные ночи. Налил ещё чаю.
Она пила медленно, обхватив чашку обеими лапами, словно боялась, что её отнимут. Я ждал молча, давая время прийти в себя. Подбросил дров в камин. Собрал разлетевшиеся по комнате бумаги. Закрыл «Большие надежды» — Диккенс подождёт.
Наконец мадам Цитата допила чай. Поставила чашку с тихим звоном. Посмотрела на меня долгим взглядом.
— Что случилось? — спросил я тихо, садясь напротив. — Почему вы здесь? Как вы нашли дорогу через границу миров в такую метель?
Она молчала несколько секунд, подбирая слова. Вернее — цитаты.
— «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Евангелие от Иоанна, глава первая, стих первый.
— «Каждое слово — как ненужное пятно на тишине и небытии». Сэмюэл Беккет.
— Что-то случилось со словами? В Городе Между-Часами?
Ещё один кивок. Медленный. Тяжёлый. Закрытыми глазами.
— «Слово мертво, когда произнесено, говорят одни. А я говорю, оно только начинает жить в тот день». Эмили Дикинсон.
Холодок пробежал по спине, и это не имело ничего общего с открытым окном или метелью.
— Интересно… — я задумался, доставая блокнот и карандаш. Старая привычка библиотекаря — записывать важное. — Ты имеешь ввиду, что слова становятся ничем?
— «By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes». Уильям Шекспир, "Макбет", акт четвёртый. — Она открыла глаза и взяв у меня ручку написала. — «Книги пустеют. Люди немеют.»
Я начал писать запасной ручкой, рука двигалась автоматически:
«Слова исчезают. Книги. Речь.»
— С какого момента? — спросил я. — Когда это началось?
— «Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле». Анна Ахматова, тысяча девятьсот семнадцатый год. — Она посмотрела мне в глаза. — «Это прекрасно — уничтожать слова. Главный мусор скопился, конечно, в глаголах и прилагательных». Джордж Оруэлл, «Тысяча девятьсот восемьдесят четвёртый».
Она говорила медленно, с паузами, словно каждое слово давалось с трудом.
— «Неужели вам непонятно, что задача новояза — сузить горизонты мысли? В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным — для него не останется слов». Тоже Оруэлл.
Я записывал лихорадочно. Мир без глаголов. Без прилагательных. Язык, рассыпающийся по частям.
— А сейчас? — спросил я, хотя боялся ответа.
Я записывал лихорадочно. Мир без глаголов. Без прилагательных. Язык, рассыпающийся по частям.
— А сейчас? — спросил я, хотя боялся ответа.
— «Новояз — единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается». Всё тот же Оруэлл. — Она дрожала снова, но теперь не от холода. — «Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх». Ахматова, "Реквием".
Она дрожала снова, но теперь не от холода.
— А книги? — я сжал карандаш так сильно, что он чуть не треснул. — Что с книгами?
Мадам Цитата посмотрела мне прямо в глаза:
— «А я молчу — я тридцать лет молчу. Молчание арктическими льдами стоит вокруг бессчётными ночами». Ахматова, седьмая северная элегия. — Она помолчала и взяв листок написала. — «Страницы становятся пустыми. Белыми. Как будто никогда ничего не было написано».
Я почувствовал, как желудок сжимается. Книги без слов. Пустые страницы. Это было... это было хуже смерти. Хуже забвения. Это было уничтожение самой сути.
— Библиотека Вечной Субботы? — прошептал я.
— «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например — не читать их». Рэй Брэдбери. — Она закрыла глаза, написав еще строчку. — «Мёртвая. Тысячи книг. Все пусты. Я спряталась. Видела это. Видела его».
— «У него нет имени. Или слишком много имён. — Почерк Мадам цитаты исказился от страха. — Мы называем его... Пожиратель Слов».
Я записал, подчеркнул дважды.
— Что это? Как оно выглядит?
Мадам Цитата обхватила себя лапами:
— «Нечто без формы, тени без цвета, мышцы без силы, жест без движенья». Томас Стернз Элиот, "Полые люди", тысяча девятьсот двадцать пятый год. — Голос дрожал. — «Между идеей и повседневностью, между помыслом и поступком — падает Тень». Тот же Элиот.
Молчание. Только треск огня и вой метели.
— А вы? — я посмотрел на неё. — Почему вы не пострадали?
— «Кроме цитат, нам уже ничего не осталось. Наш язык — система цитат». Хорхе Луис Борхес, "Утопия усталого человека". — Она печально улыбнулась. — «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает». Осип Мандельштам, "Разговор о Данте".
— «Но даже я начинаю забывать». — Она сжала лапы, написав эту строчку. — «Какая боль — искать потерянное слово». Мандельштам.
— Нет, — я схватил её лапу. — Не скоро. Мы что-нибудь придумаем.
— «Мы?» — она подняла бровь, и в этом жесте была тень прежней иронии.
— Разумеется, «мы», — я выпрямился, оранжевый плащ... вернее, его отсутствие напомнило о себе. Плащ был на ней. Я сидел в одной викторианской рубашке. — Вы думали, я позволю какому-то... Пожирателю... уничтожать слова? Книги? Сам язык?
Я встал. Голос повысился сам собой:
— Я библиотекарь, мадам Цитата. Два столетия я храню книги. Оберегаю слова. И если какое-то существо из теней думает, что может просто взять и сожрать содержимое литературы...
— ...то оно жестоко, жестоко ошибается.
Мадам Цитата смотрела на меня снизу вверх. Потом, впервые за весь вечер, слабо улыбнулась:
— «Друг познаётся в беде». Квинт Энний, римский поэт, цитируется у Марка Туллия Цицерона в трактате «О дружбе».
— Именно, — я сел обратно, взял блокнот. — Теперь расскажите всё по порядку. Где оно появляется? Когда? Есть ли паттерн? Пострадали ли конкретные книги или случайные? Люди теряют речь одновременно или постепенно?
Она рассказывала и писала. Я записывал и уточнял. Страница за страницей. Каждая деталь. Каждое наблюдение.
Пожиратель появлялся ночью. Всегда ночью. Первым пострадала Библиотека Вечной Субботы — то, что осталось от неё после Дела Украденных Вторников. Потом книжные магазины. Потом частные коллекции. Потом школы.
Люди теряли речь постепенно. Сначала редкие слова. Потом обычные. Некоторые уже не могли говорить вообще.
Морриган пыталась остановить его. Элиас пытался. Все пытались.
Но как остановить то, что не имеет формы? Что питается самой сутью языка?
К тому моменту, как она закончила, часы на камине показывали полночь. Метель всё ещё бушевала. Огонь догорал.
— Почему вы пришли именно ко мне? — спросил я.
Мадам Цитата посмотрела на меня долгим взглядом и написала:
— «Потому что ты вернул вторники. Подружился с Коллекционером. Ты...» — пауза, — «...ты библиотекарь, который помнит. Который записывает. А записанное...» — она коснулась моего блокнота, — «...труднее украсть».
Я посмотрел на исписанные страницы. На свой почерк. На слова, зафиксированные чернилами.
— «Вернуться. В Город. Найти Пожирателя. Остановить». — Голос стал тверже. — «Всего прочнее на земле — печаль, и долговечней — царственное слово». Ахматова.
За окном что-то грохнуло — ветка, сорванная ветром. Или что-то ещё.
Я посмотрел на свою библиотеку. На тысячи томов на полках. На слова, записанные столетия назад. На наследие, хранящееся здесь.
Представил их пустыми. Белыми. Мёртвыми.
— Когда метель утихнет, — сказал я, и голос прозвучал спокойнее, чем я себя чувствовал, — мы отправимся. Вместе. Но сейчас вам нужен сон. Я приготовлю гостевую комнату.
— «Я не могу ответить иначе, как спасибо, и еще раз спасибо, и еще раз спасибо». Уильям Шекспир, «Двенадцатая ночь», акт третий, сцена третья. Говорит Себастьян.
— В вашем случае, — я помог ей подняться, — благодарность состоит исключительно из слов. Других у вас нет. И мы сохраним их. Каждое. Обещаю.
Я проводил её в гостевую комнату на втором этаже. Растопил камин. Принёс свежее бельё, графин с водой, тарелку с печеньем. Нашёл запасные очки — не идеально подходили, но лучше, чем ничего.
— Спите, — сказал я у двери. — Утром обсудим план.
— «Спокойной ночи, милый принц, и пусть сонмы ангелов поют тебе в покой.». Уильям Шекспир, «Гамлет», акт пятый, сцена вторая. Говорит Горацио.
Я закрыл дверь и спустился обратно в библиотеку.
Камин почти погас. Я подбросил дров, и огонь разгорелся снова. Сел в кресло. Открыл блокнот. Перечитал записи.
Пожиратель Слов. Крадёт язык. Книги пустеют. Люди немеют.
За окном метель выла. Мир снаружи был белым, безмолвным, пустым.
Я посмотрел на полки вокруг. На корешки с названиями. На золотое тиснение букв. На слова, слова, бесконечные слова.
И поклялся себе тихо, в пустоту библиотеки:
Ни одна книга — ни в моём мире, ни в Городе Между-Часами — не станет пустой, пока я жив.
Даже если придётся сразиться с самой тенью.
Даже если придётся отдать последнюю зефирку.
(Хотя с зефирками, может быть, не стоит торопиться. У каждого есть границы.)
Я закрыл блокнот и посмотрел на затухающий огонь.
Завтра начнётся новое дело.
А пока — метель, тишина и спящая кошка-библиотекарь наверху, которая состоит из чужих слов.
И где-то в другом мире существо из теней пожирает язык. Слово за словом. Предложение за предложением.
Пока не останется ничего, кроме молчания