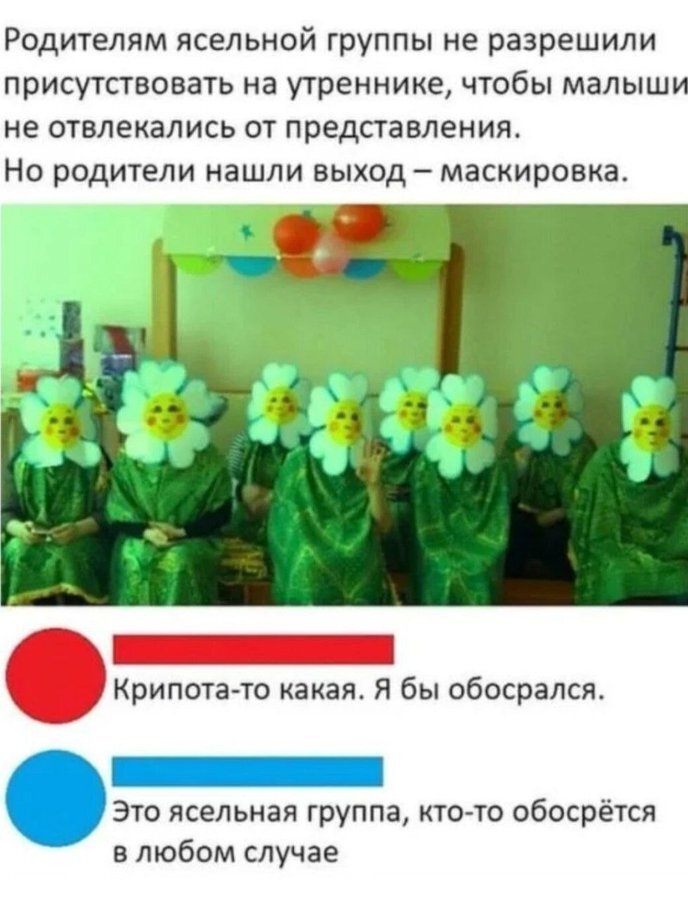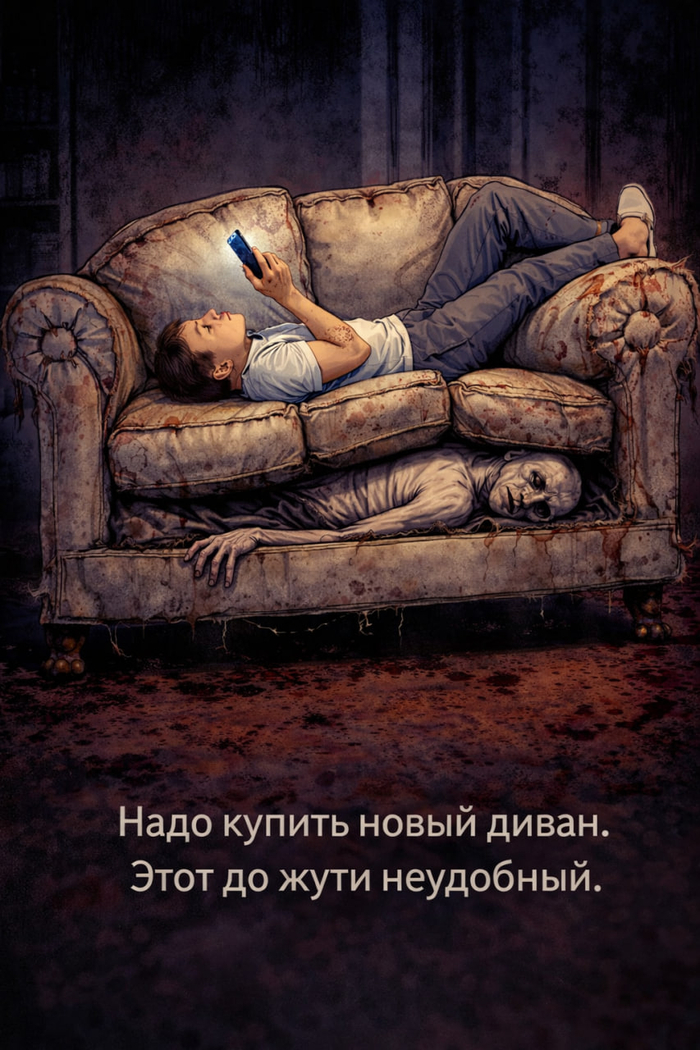Глубочайшие части океана вовсе не безжизненны (Часть 2, ФИНАЛ)
Крупная подлодка ВМС США District of Columbia сбросила свой груз — двухместную малозаметную подлодку класса Eisenhower под названием Agincourt, на которой я служил штурманом вместе с инженером Ловеллом. Она скользнула в воды Тихого океана и начала отходить от корабля сопровождения.
Море здесь было в беспорядке — в воде плыли мёртвые рыбы и обломки лодочных корпусов — но нас это не удивило. По последним оценкам, с тех пор как Левиафан пробудился несколько месяцев назад, он взволновал более четырёхсот триллионов кубических тонн воды и разрушил всю жизнь в ней. Он уже представлял потенциальную угрозу для судоходных маршрутов и военных операций. По этим и другим причинам его признали угрозой национальной безопасности. Поэтому флот построил Agincourt по чертежам Tuscany, выбрал Ловелла и меня для экипажа, и поручил нам найти Левиафана. Мы должны были выманить его со дна, чтобы District of Columbia могла нанести быстрый удар, не выдавая себя.
***
Несколько часов после выхода в море всё было спокойно — лишь громада District of Columbia следовала за нами, — но вскоре и она скрылась в глубине, и тогда мы с Ловеллом остались одни посреди океана. Он спустился по люковой лестнице из командного отсека и присоединился ко мне в сфере.
— Ну что, Латнер, ты у нас штурман. Как планируешь найти эту тварь посреди океана? — спросил он.
— Уже ищу, — ответил я. — Видишь?
Я указал вверх, на поток морской воды, тянувшийся на север на многие мили; мы следовали по нему уже некоторое время. Ловелл поджал губы:
— Не думал, что здесь бывают такие течения.
— Их и не было, — сказал я. — До сегодняшнего утра. Левиафан прошёл здесь несколько часов назад и оставил нам этот «подарок».
— Ну что ж, поблагодарим его. Как думаешь, когда мы увидим эту чертовщину?
— Скоро. Вон на тех рыб глянь, — я кивнул на косяк. — Видел когда-нибудь что-то подобное?
Он покачал головой:
— Они будто в панике.
— И плывут к нам не просто так. Чем ближе подойдём, тем больше их будет. Подожди немного.
Мы ждали. Одинокий косяк вскоре сменился несколькими, а потом это водное бегство выросло до невообразимых масштабов — кипящее, мятущееся облако жизни неслось на юг против течения, словно стая птиц, бегущая от шторма или приближения зимы. Мы с Ловеллом молчали, пока толпа не рассеялась и Agincourt вновь не оказался среди тихого, открытого моря. Я остановил подлодку, и Ловелл тихо произнёс:
— Господи Боже…
Прямо впереди, не дальше чем в двух милях, застыла гигантская тень — неподвижная, столь колоссальная, что её очертания терялись в глубине. Это был Левиафан. Даже синие киты и динозавры казались ничтожными рядом с этим чудовищем, этой подводной горой. И когда мы с Ловеллом сидели, не в силах отвести взгляд, оно впервые пошевелилось — повернулось прочь и резко ушло в глубину.
Когда тварь погружалась, силуэт целиком вырисовался перед нами, и вид этого существа заставил дыхание застрять в глотке. Мы не смогли бы сказать ни слова — даже если бы знали, что сказать. Мы просто смотрели на это нечто, пытаясь осознать масштаб его необъятности. Чудовище было действительно таким, каким его описывали: огромное, извивающееся, змееподобное создание, чей хвост распадался на сотни, а то и тысячи других, тянувшихся за ним, хаотично скручивающихся, лениво волочившихся в темноту. Одно дело рассказы… Но увидеть это воочию — было совершенно иное ощущение.
Не говоря больше ни слова, Ловелл вскочил и поднялся по лестнице обратно в командный отсек.
— Agincourt вызывает District of Columbia, — услышал я его голос. — Говорит лейтенант Ловелл. Мы обнаружили Левиафана — координаты тридцать три точка девять три четыре на минус сто пятьдесят три точка четыре пять семь ноль. Преследуем, но он движется быстро и уходит вниз. Следите за обратным течением. Рекомендуем “District” идти по нашему следу, но не начинать, пока мы не поднимем его к вам.
Пока он говорил, я дал ход двигателям и повёл Agincourt за ускользающей тенью, вниз, в бездну. Двенадцать узлов. Двенадцать и два. Двенадцать и четыре. Agincourt сначала ползла, потом шла, а затем рванула во весь ход — в погоню за чудовищем.
***
Через несколько минут Ловелл снова спустился по люку.
— District на подходе.
— Идёт на скорости?
— Просто движется. Но не выйдет на открытую воду, пока мы не прижмём эту тварь туда, куда им нужно. Есть идеи?
Я помолчал и сказал:
— Видел записи с Tuscany?
— Отрывками.
— Ну, пилот привлёк внимание Левиафана, и тот погнался за ним прямо к поверхности.
— Но он выжил, да?
— Да, чудом, насколько я слышал. После этого он вообще отказался от глубоких погружений.
— И к чему ты ведёшь?
— К тому, что Agincourt быстрее, чем Tuscany. Если заставим тварь преследовать нас, сможем обогнать её и вывести District ей во фланг. Пара торпед по борту — и готово. У нас будет музейный экспонат весом в триста тысяч тонн.
Повисла тишина. А потом Ловелл задал худший из возможных вопросов:
— А если District не сможет ей ничего сделать? Ты видел, какого она размера.
— Ну… тогда нам придётся искать другой транспорт до дома.
***
Agincourt заполнила балластные цистерны и последовала за Левиафаном всё глубже в Тихий океан — туда, где солнечные лучи уже не достигают воды. Вскоре вокруг не осталось вообще ничего, кроме темноты. С этого момента лишь сонар — скромное сердце нашей лодки — указывал путь вперёд, иногда подталкиваемый могучими потоками, исходившими от самого чудовища.
Ловелл нарушил затянувшуюся тишину:
— Что дальше по плану?
— Сейчас? — ответил я. — Просто пытаюсь привлечь внимание этой твари. Чем ближе мы будем к District, когда она нас заметит, тем лучше. Но, похоже, мы зашли слишком глубоко. Слишком.
И это было правдой: по глубиномеру мы прошли отметку в пятнадцать тысяч футов. Нужно было выбираться.
— Пристегнись.
Он подчинился, заняв кресло позади меня, а я включил передние прожекторы и вжал рычаг ускорения.
— Что, чёрт возьми, ты делаешь?!
— Я же сказал — пытаюсь привлечь её внима… — я осёкся и сбросил тягу.
Свет прожекторов Agincourt разлился по бездне. И осветил пустоту.
— Где эта хрень? — выдохнул Ловелл.
Я выкрутил яркость света на максимум и остановил лодку.
— Не знаю.
Мы обшаривали воду взглядом — искали хоть малейшее движение, тень, след. Но не было ничего. Лишь тьма. И тишина. Я перевёл Agincourt в медленный ход, лучи прожекторов скользили по скалам и впадинам.
Ничего. Чёрт… Если только…
Я выключил свет.
— Эй, что ты творишь? Что случилось?
— Не может быть, чтобы нечто такого размера просто исчезло.
— Так куда оно делось?
Я стравил балласт, поднял нос лодки и дал полный вперёд.
— Оно никуда не делось. Оно знало о нас всё это время. Просто затащило нас в темноту, чтобы сбить с хвоста.
— Думаешь, такое чудовище боится, что его поймают?
— Его не ловят, Ловелл. Это мы — добыча.
Agincourt рванула вверх, насколько позволяли двигатели, но время работало против нас. Впереди над нами возникла гигантская тень, стремительно двигаясь наперерез — разница между сумерками и кромешной ночью.
— Шевелись! — крикнул я. — Попробуй связаться с District!
Ловелл отстегнулся и бросился к люку, вскарабкавшись по ступеням — и вскоре из командного отсека донеслось потрескивание радио.
— Алло, алло, District of Columbia, это Agincourt! Приём! Слышите нас?
Статические помехи пробивались даже до пилотной сферы. Масса Левиафана перекрывала сигнал.
— Продолжай вызывать сопровождение! Я попробую вырваться из-под него!
— Алло, алло, District of Columbia, это лейтенант Ловелл с Agincourt! Приём! Слышите нас?
Agincourt резко накренилась вправо, я дал ей полный ход. Семнадцать узлов. Семнадцать и три. Семнадцать и пять. Семнадцать и семь. Я поднял взгляд — тень Левиафана заслоняла всё морское дно. Но мы всё равно продолжали движение.
— Алло, алло, District of Columbia, это Agincourt! Приём! Вы нас слышите?
Снова лишь шипение эфира.
Девятнадцать узлов. Девятнадцать и два. Девятнадцать и четыре. Agincourt уже двигалась быстрее, чем большинство судов, но тень над нами, казалось, не имела края — настолько огромным было тело Левиафана.
Двадцать один узел.
— District of Columbia, это Agincourt! Приём! Ответьте!
Тишина.
Двадцать один и девять. Двадцать два и два. Я взглянул вверх. Тень расплывалась, но я различал чудовищный, чуждый лес её щупалец — они развевались, тянулись во все стороны, неподвижные, как сама бездна. Это походило на чёрную многолучевую звезду, увиденную сквозь искривлённое время и пространство. Но она начала отставать; Agincourt была быстрее. Двадцать три и пять.
— Алло, District of Columbia, это лейтенант Ловелл с Agincourt. Приём, слышите нас?
По-прежнему лишь треск эфира, но среди него начали прорываться едва различимые всплески звука — слабые, но ясные. Мы вырывались из зоны помех. И быстро.
Двадцать пять узлов. Двадцать пять и три.
Слишком быстро. Это напрягает.
— Алло, District of Columbia, это Agincourt. Приём! Слышите нас?
Я поднял взгляд, потом оглянулся через плечо.
Двадцать пять и восемь. Двадцать пять и девять. Двадцать шесть узлов.
— Чёрт… — прошептал я. Левиафан вовсе не гнался за нами — он поднимался вверх. Я включил все прожекторы, дал полный ход и сбросил балласт. Мы начали подниматься.
— Ловелл!
— Что?! Что случилось?!
— Связь с кораблём есть?!
— Пока нет! А что?
— Левиафан не идёт за нами. Он поднимается.
— Так это же хорошо! District сможет ударить, как только он подойдёт!
— Он не подойдёт! Он всплывёт прямо под кораблём! Подлодка не сможет стрелять с такой дистанции!
Двадцать три узла. Мы потеряли скорость при наборе высоты. Двадцать три и одна.
— Боже мой… Господи, давай, давай же, двигайся! Быстрее, быстрее, чёрт возьми, вверх!
— Продолжай вызывать их! — крикнул я.
Двадцать пять и четыре. Двадцать пять и семь.
Масштабная тень Левиафана устремлялась вверх, туда, где вода становилась светлее; я видел, как его щупальца выстраиваются в единый поток, набирая ход.
— Алло, алло, District of Columbia, это Agincourt. Приём! Ответьте, ответьте!
Двадцать семь и три узла. Мы были уже на глубине около трёх тысяч футов; до расчётной глубины District оставалось меньше двух тысяч.
Agincourt продолжала подниматься. С каждой секундой вода светлела, стрелка давления падала, Левиафан, теперь уже мчавшийся выше и левее нас, приближался. И тут я понял окончательно — District of Columbia не имела ни малейшего шанса. Даже в нечестном бою. Это существо неудержимо.
— Алло, алло, District of Columbia, это Agincourt. Приём!
Пятнадцать сот футов до предельной глубины сопровождения.
— …ло… gincourt… это District… Columbia… слышим… приём… мы двига… — эфир зашипел снова, но голос всё же прорвался.
— Слушайте меня! — сказал Ловелл. — Слушайте внимательно! Энсин, повторяю: у нас нет Левиафана на хвосте. Повторяю, нет. Он прорвался между нами и идёт к координатам, которые я передавал ранее. Если вы там — немедленно отступайте. Приём! Уходите сейчас же!
Тысяча футов. Восемьсот. Семьсот пятьдесят.
— …связь прерывается… координаты… тридцать три точка… четыре на минус сто пятьдесят… точка четыре пять… ждём… посылку… подождите, ПОДОЖДИТЕ…
— District of Columbia, приём! Это лейтенант Ловелл с Agincourt. Вы на связи? Приём! Слыши…
ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХХ!!!!!
Сердце подпрыгнуло к горлу. Я узнал этот звук — рёв Левиафана — тот самый, что был на записях с Tuscany. Значит, чудовище больше не заботится о скрытности. А это могло означать только одно. Чёрт.
БУМ. БУМ. БУМ.
Ловелл спустился в пилотную сферу.
— Иисусе… Что это, чёрт побери, было?!
— Опоздали. Вот что. Мы, блядь, опоздали.
И хотя течение, созданное скоростью Agincourt, несло нас вперёд, я всё же остановил лодку. Остановил, чтобы видеть, что будет дальше. И зрелище было ужасным.
Перед нами раскинулась горбатая спина Левиафана, а его громадная пасть, заслонённая стеной клубящихся щупалец, принимала на себя серию торпедных залпов от подлодки сопровождения. District of Columbia выпустила целую очередь Mark 48 — торпеды вырвались из шахт и одна за другой рванулись вперёд, взрываясь волнами — БУМ! БУМ! БУМ!!
И на миг я подумал… может, этого хватит, если попадания точные? Может, получится хотя бы ранить это чудище, остановить его хоть ненадолго?...
Но зверь просто принял удары и продолжил движение. Через мгновение у субмарины остались лишь баллистические ракеты — оружие, не предназначенное для ближнего боя. District пыталась отступить, выкладываясь полностью, но подлодка класса Ohio — это махина длиной почти с два футбольных поля и весом около девятнадцати тысяч тонн из стали и заклёпок. Быстрая, но не настолько.
District of Columbia была обречена.
— Попробуй вызвать Dixon, Ловелл, — сказал я, и голос дрогнул. — District — всё.
В тот же миг последняя торпеда из арсенала Columbia вырвалась наружу, прошла сквозь воду, оставляя пузырящийся след, и врезалась в одно из щупалец. Взрыв прогремел могуче, но впустую.
А затем, после короткой паузы, Левиафан развернулся, и его щупальца заслонили последние лучи солнца, клубясь и смыкаясь вокруг корпуса District.
И корабль исчез.
ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХХ!!!!!
Чёрт.
Я уводил Agincourt прочь от этого пиршества на всей доступной скорости. Двадцать узлов. Двадцать и одна десятая. Двадцать и четыре.
— Алло, Dixon, приём? Это лейтенант Ловелл с Agincourt. Ответьте, приём!
Двадцать два узла.
— Алло, Dixon, алло, это Agincourt, приём! Просим эвакуацию, слышите?
Двадцать три.
Позади нас я почувствовал дрожь, гул и гигантское смещение воды. Agincourt затряслась и пошла в крен. Я взглянул назад.
Двадцать три и пять.
— Алло, Dixon, это Agincourt. Приём, слышите нас?
Двадцать три и шесть.
Боже милостивый…
Левиафан закончил трапезу и разворачивался. Одни только его щупальца вызывали мощное встречное течение, а затем — Господи всемогущий — показалась она. Пасть. Огромная, чудовищная, немыслимо безмерная — зияющая бездна и рот одновременно. Что, во имя всех богов, это вообще за существо?
Двадцать четыре и одна. Двадцать четыре и шесть.
— Agincourt, это Dixon. Принимаем ваш запрос на эвакуацию. Укажите курс.
Левиафан распахнул глаза, и Agincourt мгновенно погрузился в оранжевое сияние.
Чёрт.
— Ловелл!
— Dixon, подождите. Что?!
Двадцать шесть узлов.
— Отменяй эвакуацию.
— Что?! Почему?!
Двадцать шесть и три.
— Оно нас видит. Передай Dixon, чтобы уходили в безопасную зону. Мы попробуем оторваться от него и позже выйти на связь.
Двадцать шесть и восемь. Двадцать семь.
— Dixon, приём?
— Слышим вас отлично, Agincourt.
Двадцать семь и пять.
Щупальца Левиафана выстроились в плотный веер, когда оно ринулось за нами. Боже, помоги. Пожалуйста, Господи, помоги нам.
Двадцать семь и семь.
— Слушайте: мы идём на северо-запад на полной скорости. District of Columbia уничтожен. Мы…
Двадцать семь и девять. Двадцать восемь.
— Повторите, приём? Columbia уничтожена?!
— Подтверждаю! Левиафан уничтожил District of Columbia! Сейчас мы…
ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХХ!!!!!
— Мать твою!.. — я вжал рычаг тяги до упора. Двигатели застонали от перегрузки, но держались.
Тридцать узлов. Тридцать и две десятых. Тридцать и три. Вода вокруг будто сама стекала в распахнутую глотку чудовища целыми озёрами. Давай, малышка. Давай. Давай, давай, давай!
— Agincourt, это Dixon Actual. Подтвердите уничтожение District of Columbia, приём.
Тридцать два узла.
— Так точно, сэр. Левиафан выдержал всё, что “District” успела выпустить по нему, сэр, а потом он просто… сожрал корабль.
ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХХ!!!!!
Тридцать две и пять. Тридцать две и девять.
— Мы засекли ваш маяк, Agincourt. Эсминцы движутся для спасения и вступления в бой.
Сердце у меня остановилось.
Тридцать три узла.
— Ловелл!
— Знаю, знаю! Dixon, на связи?! Капитан Гилси! Не вступайте, сэр! Не вступайте! Клянусь вам, сэр, ничто, кроме, чёрт возьми, ядерного удара, не остановит эту тварь. Уведите эсминцы в безопасную зону, мы выйдем к вам!
— Отрицательно, Agincourt. Вы вывели цель на поверхность. Мы справимся сами. Джилси, конец связи.
Тридцать четыре узла и растёт.
— Dixon, приём! Ответьте!
ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХХ!!!!!
Agincourt летела как могла, но корпус гудел от перегрузки, всё дрожало, лодку трясло, а течение с силой било в лобовую сферу.
Тридцать четыре и семь. Тридцать пять. Давай, малышка. Давай, родная.
— Dixon, это Agincourt! Немедленно отступите, слышите?! Приём! Ответьте, чёрт возьми!
Левиафан приближался. Неважно, двигался ли он быстрее или просто втягивал в себя океан целиком — суть была одна: Agincourt проигрывала, несмотря на отчаянную борьбу. Это была гонка со временем. И с бездной. Гонка без надежды на победу.
Тридцать шесть узлов. Тридцать шесть и одна.
— Dixon, это Agincourt! Ответьте, вы, мать вашу, безумцы! Отступите!!
ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХХ!!!!!
Все приборы звенели, стрелки дрожали, панели ходили ходуном, а перепонки в ушах вибрировали. Сверху я слышал, как Ловелл, взбешённый, орёт и колотит разводным ключом по пульту.
Тридцать семь узлов. Тридцать семь и три.
Чем ближе подбирался Левиафан, тем большей скорости требовалось просто чтобы остаться в живых. Это было как тянуться к краю пропасти, чувствуя, как гравитация затягивает тебя ниже. Одно неверное движение, малейшая ошибка — и всё.
Я увидел, как тень его пасти поползла по корпусу. Agincourt уже работала на пределе — тридцать девять узлов — и всё равно этого было недостаточно.
— Agincourt вызывает Dixon, Agincourt вызывает Dixon, не вступайте в бой. Повто…
Ловелл осёкся — в эфире снова зашипело. Масса Левиафана перекрыла сигнал. Мы ничего не могли сделать. Вода хлынула в пасть чудовища, и Agincourt пошёл вместе с ней — беспомощно, отчаянно, с ревущими на пределе двигателями, выжимая из себя последние силы, пока тьма не сомкнулась вокруг.
— Латнер? — произнёс он. — Мы…
БУУУУУУУУУУУУМ!!!!!
Взрыв — без сомнений, противоподлодочная ракета “корабль-корабль” — прошёл сквозь толщу воды и будто поджёг весь океан. Dixon прибыл.
БУУУУУМ!!!
Ещё один разрыв — и корпус Agincourt содрогнулся до самых заклёпок. Левиафан резко изменил курс и устремился к поверхности с дьявольской скоростью.
ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХ!!!!!
Позади, не дальше чем в сотне ярдов, чувствовалась его чудовищная масса — подводная волна накрыла Agincourt, перевернула его вверх килем, а потом лодку снова швырнуло в обратный крен.
БУУУУМ!!! БУУУУМ!!
Взрывы приближались.
— Ловелл!! Они что, не знают, что мы здесь?!
БУУУМ!! БУУУМ!! БУУУМ!!
— Не знаю! Возможно, они потеряли наш маяк вместе с радиосигналом!
— Что это значит?!
БУУУМ!! БУУУМ!!! БУУУУМ!!!
— Это значит, что они думают, что мы, мать его, мертвы!!
— Можешь попробовать снова выйти на связь?!
— Не знаю! Я…
Вспышка света — и тут же:
БУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУММММ!!!!!!!!
Последняя глубинная бомба ударила так, что волна прошла сквозь море, пробила измученный корпус Agincourt и врезалась прямо в кабину. Меня подбросило даже в ремнях. В ушах стоял сплошной звон, а лодку гнуло, крутило и будто било дрожью. Свет мигал, сирена выла, панели мигали красным. Я расстегнул ремни, поднялся, пошатываясь, и почти ползком добрался до пульта.
БУМ! БУМ! БУМ!
Разрывы звучали уже совсем рядом — или слух просто больше не мог различить расстояние. Всё будто плыло. Голова. Зрение. Я наугад тянулся к приборам — половина выведена из строя, другая выдавала ослепляющий сигнал тревоги. Чт… ч-что…?
— Ловелл! — услышал я собственный голос, глухой, словно из-под воды. — Ловелл, можешь… можешь связаться с “Dixon”? Ловелл?!
Пальцы скользили по пульту. Цифровые панели были тёмные. Я попытался запустить двигатели, но услышал только сухое щёлк-щёлк-щёлк из блока управления.
— Ловелл, ты тут?
Ггггггррррррррааааааааааауууууууууууууууууууууууууууууууууухххххххх!!!
БУМ! БУМ! БУМ!
Я слышал не бой — я слышал только собственное сердце.
— Ловелл?
Постепенно шок стал уходить, уступая место куда более страшному чувству. Страху.
— Ловелл!
Я оторвался от пульта и бросился к лестнице люка. В лицо попала капля воды. Потом ещё одна. И ещё. Я начал карабкаться вверх.
БУУУУУМ!! БУУУУМ!! БУУУУМ!!
ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХ!!!!!
Когда рука схватила верхнюю перекладину, ладонь соскользнула — всё было мокрое. Я сжал сильнее, подтянулся и выбрался в отсек управления под люком.
— Ловелл?
Ответа не было. Конечно, его не было. Ловелл сидел у дальней стены в неестественной позе — глаза закрыты, неподвижные, из правого уха тянулась тонкая струйка крови, стекала на плечо и смывалась тонким ручьём морской воды, просачивавшейся сквозь погнутый люк. Этот ручей превратился в поток. Потом — в несколько. Свет снова мигнул. Я подошёл к нему, опустившись на колени в холодную воду.
— Ловелл? Эй, приятель. Эй, ты слышишь меня?
БУУУУМ!! БУУУУМ!! БУУУУМ!!
Он едва слышно всхлипнул, но этот звук утонул в других — в рёве Чудовища — ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХ!!!!! — и в куда более зловещем шуме: из нижних отсеков доносился стремительный плеск. Когда я заглянул вниз, вода уже поднималась внутри пилотской сферы — она шла вверх, к нам. В просвете люка сквозь толщу воды пробивался солнечный луч. Я схватил разводной ключ.
— Ловелл, мы у поверхности. Слышишь? Я вижу солнце. Оно прямо там, приятель. Мы выберемся. Просто держись, ладно?
Я поднялся ещё на две перекладины и ударил по люку. КЛАНГ. Крышка чуть прогнулась. Ещё удар. КЛАНГ. Ещё дюйм. Вода уже переливалась в отсек. Ловелл снова стонал.
— Держись, дружище, ладно?
Ещё удар. КЛАНГ.
БУУУУМ!! БУУУУМ!! БУУУУМ!!
Свет мигнул в последний раз и погас. Agincourt застонал, заскрипел и, наконец, начал умирать.
КЛАНГ.
— Ну же… пожалуйста, Господи. Пожалуйста, Боже.
КЛАНГ.
Люк начал поддаваться. Луч солнца стал ярче. А вода снизу уже дошла до середины сапог Ловелла.
КЛАНГ. — я почувствовал, как что-то сдвинулось.
— Есть!
Я выбил в крышке отверстие — достаточно большое, чтобы просунуть руку. Но едва я это сделал, как вода хлынула внутрь вдвое сильнее, чем из нижних отсеков. Я обернулся, соскользнул с лестницы и отпрянул назад, когда потоки стали собираться в бурлящую лужу. Что за…?
Потом я поднял взгляд — и понял. Мы не у поверхности. Почти, но не там. Ещё футов сто до свободы. Сто футов — и целая вечность.
ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХ!!!!!
Вода прорвалась в отсек с обеих сторон и швырнула меня к стене, рядом с Ловеллом.
— АААХХХХХКККХХХХПППТТТХХХХ!!!
Океан бился в нас — волнами, потоками, ударами. Я задыхался, хватая воздух на доли секунд, но нашёл его руку и сжал. Он ответил — едва ощутимо, но крепко, обогнув пальцами мой кулак. Мы начали всплывать — медленно, вместе, к потолку.
— Прости, приятель. Прости… я правда пытался.
ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХ!!!!!
Больше я не слышал ни взрывов, ни залпов — только торжествующий рёв Левиафана, и гул заливающей всё воды, и собственное сбивчивое дыхание. Я прижался губами к потолку, выхватывая последние пузыри воздуха, чувствуя, как Ловелл уходит вниз, как вода обхватывает грудь, поднимается к лицу — всё.
Потом тень легла на остов Agincourt’а. Удар. Толчок. Поток, что сорвал нас в темноту.
А потом…
ГГГГГГГРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХ!!!!!
***
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР!!!
КЛАНГ!
— Они внутри!
Я открыл глаза. Всё болело. Я не понимал, где нахожусь. Не понимал, что происходит. Не понимал ничего. Слышал шаги, видел тень — и вдруг кто-то схватил меня за плечи и поднял. С меня хлынуло — целое ведро морской воды с волос, с лица, с рубахи.
— К-кккх… что…?
— Всё в порядке. Всё в порядке, лейтенант Латнер, верно? Эй. Сюда. Всё хорошо. Мы вытащим вас отсюда, слышите? Энсин, передай механику — есть выживший!
— Есть, сэр.
— Я не… я не понимаю, что…
— Всё хорошо.
— Ловелл.
— Что?
— Ловелл… он… я не… не помню. Я не могу… — я разрыдался. Жалко, с надрывом, всхлипывая и задыхаясь.
— Эй, эй. Всё хорошо. Всё хорошо. Кто-нибудь, помогите мне тут!
А потом — темнота стала сгущаться.
— Эй! Он уходит! Я теряю его! Я…
И всё снова почернело.
***
Я очнулся в больничной палате. Дольше суток метался в бреду, но когда разум прояснился, меня ввели в курс дела — и я, в свою очередь, рассказал всё, что помнил, для отчёта.
Из того, что мне поведали: Dixon был уничтожен, погиб весь экипаж, вместе с кораблём сопровождения и, разумеется, District of Columbia тоже. Всего флот потерял более семисот человек. Хороших, храбрых людей… Среди них — лейтенант Дэвид Скотт Ловелл. Это был самый кровавый день в истории ВМФ США в мирное время.
Но я узнал и кое-что ещё. Судя по следу удара на борту затонувшего Agincourt, после того как Левиафан расправился с Dixon, он ударил и нас — с такой силой, что выбросил лодку на поверхность. Там её и нашёл эсминец класса Arleigh Burke — Tecumseh — качающуюся в волнах, с сорванным люком.
Флот, конечно, постарается скрыть всё это. Свалит гибель кораблей на неудачные учения или техническую аварию. Но я к этому руки не приложу. И уж тем более — к новым попыткам выследить то существо.
Нет. Эту историю нужно рассказать. Ради тех, кто погиб. Ради Ловелла. И ради вас. Как и пилот Tuscany до меня, я принял одно: то, что скрыто внизу, тревожить нельзя.
Ни зверя. Ни его дом.
Во имя самого Бога — не заходите далеко, в чёрную бездну дикого Тихого океана.
Ради всех нас.
~
Телеграм-канал чтобы не пропустить новости проекта
Хотите больше переводов? Тогда вам сюда =)
Перевел Хаосит-затейник специально для Midnight Penguin.
Использование материала в любых целях допускается только с выраженного согласия команды Midnight Penguin. Ссылка на источник и кредитсы обязательны.
Чужие грядки
Тузик почти заткнулся только под утро. Всю ночь это мохнатое чмо рвалось с цепи, хрипело и гавкало в сторону леса, будто оттуда на нас наступала танковая дивизия. Я не спал. Лежал, пялился в потолок, в то место, где муха ползала по желтому пятну от протечки. И мечтал только об одном: выйти и пристрелить чёртова пса. Или того, кто там шарится.
— Олег, ты глухой, что ли? — раздражённо заворчала жена. — Сделай что-нибудь с собакой, мне на работу скоро вставать.
Наташка. Вечно недовольная всем и вся. Кажется, от злости её лицо сильно вздулось и этот отёк теперь никогда не сходит. Мы живем в этом СНТ круглый год не от хорошей жизни — квартиру в городе продали за мои долги, теперь гниём здесь, на краю мира, где из соседей только лес да пара пенсионеров-дачников.
— Сейчас, — буркнул я, нащупывая ногами холодные шлепки.
Вышел на крыльцо в этот мерзкий, сырой предрассветный воздух. Тузик, увидев меня, завилял хвостом, но тут же снова развернулся мордой к забору из сетки-рабицы и зашелся лаем. Шерсть на его загривке встала дыбом.
— Заткнись! — шикнул я, нашаривая рукой первый попавшийся дрын. — Кому сказал!
Пес прижался к земле, заскулил, но глаз от темной стены леса не отвел. Я подошел к сетке. За нашим участком — полоса бурьяна в человеческий рост, а дальше старый ельник.
Я прищурился. Вроде никого. Хотя… Метрах в двадцати, у самой кромки деревьев, выделялся силуэт. Столб? Нет, столбов там отродясь не было. Человек! Стоит и не шевелится.
— Эй! — крикнул я, чувствуя, как по спине пробежал неприятный холодок. — Это частная территория! Вали отсюда!
Фигура дернулась. Она как-то слишком быстро присела и растворилась в высокой траве.
— Наркоманы хреновы, опять закладки свои ищут, — сплюнул я.
Вернулся в дом. Наташка уже сидела на кухне, ковыряла вилкой слипшиеся макароны прямо из сковородки.
— Кто там?
— Да хрен его знает. Торчки какие-то.
— Торчки… — передразнила меня она. — Хозяин в доме, называется. Забор починить не может, собаку успокоить не может. Тьфу. Ты мне денег на автобус оставил? Или опять всё пропил?
Внутри что-то неприято заварочилось. Знаете, такое чувство, когда крышка на кипящей кастрюле начинает подпрыгивать?
— Я не пил уже три дня, Наташ. Заткнись, а?
— Заткнись? Ты мне рот не затыкай, урод! Я тебя, паразит, всю жизнь на своем горбе тащу! Лучше б я за Витьку вышла!
Она вскочила, задела локтем кружку с чаем. Та полетела на пол, разлетевшись бурыми брызгами. Наташка замахнулась на меня полотенцем.
Я просто толкнул её. Даже не думал её бить, хотел, чтобы просто отстала. Она пошатнулась, нога поехала на мокром линолеуме. Наташка рухнула назад. Глухо и тяжело приложившись затылком прямо об угол чугунной батареи.
Звук был мерзкий. Влажный хруст, как будто разломили пополам сочный огурец.
Она осела на пол, глаза открыты, смотрят на меня, но уже ничего перед собой не видят. Изо рта вырвался какой-то хриплый вздох, и наступила тишина. Кажется, даже холодильник в этот момент перестал гудеть.
— Наташ? — я сделал шаг вперед.
Под головой начала расплываться темная лужа.
Меня мелко и противно затрясо. Руки пошли ходуном, как с дикого похмелья. Убил. Я убил жену. Срок. Зона. Мне конец!
Я кинулся к окну, чтобы глотнуть воздуха, и замер.
За сеткой-рабицей, буквально в пяти метрах от дома, стоял сосед. Петрович. Тихий старикан из крайнего дома, вечно копающийся в своем огороде и никогда со мной не здоровающийся. Он стоял и смотрел прямо в окно. Прямо на меня!
Наши взгляды встретились. Петрович не удивился. Он вообще никак не изменился в лице. Просто развернулся и быстро, слишком быстро почесал к своей калитке.
Он видел. Он всё видел!
Мозг сейчас работал в аварийном режиме. Если он позвонит ментам — мне крышка!
Я вылетел из дома, даже дверь не закрыл. Перемахнул через низкий заборчик, разделяющий наши участки.
— Петрович! Стой, сука!
Дед уже скрылся в своем сарае. Я рванул следом. Влетел в темное помещение, в котором воняло мазутом. Петрович стоял у верстака, держа в руке старый советский разводной ключ.
— Не надо, Олег, — прохрипел он. Голос у него был на удивление спокойный.
Я не стал разговаривать. Схватил лопату, прислоненную к стене. Удар пришелся плашмя по плечу, дед выронил ключ, охнул. Второй удар — ребром штыка — вошел куда-то в шею. Кровь брызнула на мои тапки. Петрович захрипел и повалился на кучу какого-то тряпья.
Я стоял над ним, тяжело дыша. Два трупа. За пятнадцать минут! Жизнь кончена? Или еще нет?
Никто ведь не знает? В СНТ почти никого нет. Участковый здесь появляется раз в год. Или если чья-то халупа сгорит.
Надо прятать!
Весь день прошел как в тумане. Я загнал свою "четверку" задом прямо к крыльцу. Наташку завернул в старый ковер. Тяжелая, зараза! Пока тащил, чуть спину не сорвал. Запихнул в багажник, пришлось сложить задние сиденья.
Потом приступил к Петровичу. С ним было проще — он сухой, как вобла. Замотал в полиэтилен, кинул сверху.
Дождался темноты. Вывез их в лес, километров за десять, по старой лесовозке, где только такой отчаявийся, как я, и проедет. Копал долго. Земля каменистая, с корнями. Руки стер в кровь, мозоли лопались, пот заливал глаза. Комары, лишенные какого-либо милосерсердия, искусали всю шею.
Я вырыл одну яму на двоих. Глубокую, метра полтора. Свалил их туда валетом.
— Мир вам да любовь, — прохрипел я, закидывая их землей. Нервный смешок вырвался из горла и тут же затих.
Машину я утопил в старом пожарном пруду на другом конце района. Номера скрутил, утопил отдельно. Домой возвращался пешком через лес, шарахаясь от каждого шоороха в кустах.
Утром я позвонил в полицию.
— Жена пропала. Поругались вечером, она психанула, убежала в лес. Телефон дома оставила. Нет, до сих пор не объявилась.
Приехал участковый, лейтенант. Записал показания. Я сидел на кухне, пил водку (для успокоения, типа нервничаю) и старательно изображал беспокойство. Пол я отмыл хлоркой так, что старый линолеум побелел.
— Собака у вас чего так бесится? — спросил лейтенант, кивнув на окно. Тузик снова разрывался в истеричном лае, глядя на забор.
— Да зверье дикое чует. Лисы, может. Или жена где-то там бродит... — я пустил скупую слезу. Актер без "Оскара".
— Вызовем кинолога с собакой. Может след возьмет, — сказал мент. — Если она и в правду в лес ушла, найдем.
Внутри нарастала паника. Собака! Если она почует кровь в машине (я же её утопил!) или в доме… Нет, в доме хлорка. А трупы далеко. Очень далеко. Ни одна овчарка за десять километров не учует.
Через два часа приехал "бобик" с кинологом. Овчарка, здоровая, черная, сразу начала рыскать носом.
— Дайте вещь пропавшей, — попросил кинолог.
Я вынес Наташкин халат. Пес понюхал, чихнул и уверенно потянул поводок.
Но не к калитке. И не к дороге.
Он потащил ментов на задний двор. К той самой сетке-рабице.
— Куда он? — нахмурился участковый.
— Там лес, может, туда побежала? — поддакнул я. Сердце колотилось в груди. Пусть ищут в лесу. Пусть уйдут туда и ищут хоть до турецкой пасхи.
Собака подбежала к границе моего участка и участка Петровича. Встала в бурьяне и начала рыть. Агрессивно, с рычанием.
— Что там? — лейтенант шагнул в траву.
— Да мусорная яма там, компост! — крикнул я, чувствуя, как ноги становятся ватными. — Кости куриные кидаем!
Кинолог оттащил пса, копнул саперной лопаткой.
— Товарищ лейтенант, — голос у парня дрогнул. — Тут это…
Я замер. Не может быть. Я же увез их. Я увез их за десять километров! Здесь ничего нет!
Лейтенант присел на корточки, надел перчатку. Разгреб землю.
Из грязной глины торчала кисть руки. Полуразложившаяся. На пальце тускло блестело дешевое колечко.
Это была не Наташка. И не Петрович.
Кинолог копнул в метре правее. Собака снова залаяла. Еще одна яма.
— Твою мать... — выдохнул участковый, поднимаясь. — Да тут целое кладбище!
Они обернулись на мня. Взгляды их резко изменились. Теперь это были не усталые, от своей ментовской рутины, менты, а хищники, почуявшие добычу. Рука лейтенанта медленно легла на кобуру.
— Гражданин Суслов, лицом на землю! И руки за голову!
Меня скрутили очень быстро и очень профессионально. Лицом в грязь, наручники до хруста в запястьях.
— Это не я! — орал я, плюясь землей. — Это не мои! Вы не понимаете!
И только когда меня тащили к машине, я увидел дом Петровича. Тихий, тёмный и пустой дом.
Вспомнил, как он стоял на рассвете у забора. Как смотрел на меня.
Он не просто пришёл посмотреть, как я скубусь с Наташкой. Он что-то проверял!
Этот старый урод годами закапывал трупы. Прямо здесь! На стыке наших участков, в густом бурьяне, куда я каждый раз ленился заходить с косилкой. Он использовал мою землю как свой могильник.
А когда я убил Наташку, он испугался не того, что стал лишним свидетелем. Он испугался, что менты приедут на труп жены и найдут ЕГО коллекцию.
— Вы не понимаете! — выл я, пока меня запихивали в "бобик". — Я убил только двоих! Только двоих! Остальные не мои!
Позже, участковый посмотрел на меня как на сумасшедшего маньяка.
— "Только двоих", значит? Ну, столичным операм это расскажешь, Чикатило хренов. Там уже экскаватор работает. Говорят, уже пятый скелет вырыли.
Ирония судьбы: я сяду пожизненно. Но не за то, что совершил. А за то, что сделал мой тихий, но не очень вежливый сосед.
Каракули
Угодил мордой прямо в мокрый асфальт. ППС-ник, который сбил меня с ног, весит килограммов сто, не меньше. Чувствую, как кожа сдирается со щеки, пока мы по инерции скользим пару метров по щербатому тротуару.
— Встать, урод!
Прыткий бугай уже на ногах. Орет мне в самое ухо, выламывая руки.
— Ты меня слышал? Встать, я сказал!
Ключица сейчас сломается. Он дергает меня вверх.
Больно. Везде. Лицо в крови. Наручники щелкают на запястьях, я и слова сказать не успеваю. Да и не собирался, в общем-то. Слова мне не друзья. Да и что я им скажу? «Извините, товарищ майор, вы ошиблись»? Или, может: «Сообщения? Какие сообщения?». Или вот это, самое лучшее: «Двадцать три трупа? Понятия не имею, о чем вы!».
Могу, конечно, и дальше варианты перебирать, но все они будут враньем. Я знаю про сообщения, только я их называю «каракули». И про всех мертвых я тоже знаю. И если тут и есть какая-то ошибка, то это не я. Я в этой грязи по уши, уже давно.
Мент тащит меня к своему напарнику. Тот привалился к фонарному столбу, тяжело дышит, грудь ходуном ходит.
— Доживешь, — хрипит тот, что держит меня. Руки заведены за спину так, что еще сантиметр — и что-то внутри порвется. Точно порвется.
Тот, что у столба, кивает, прижимая руку к груди.
— Нормально...
Он замечает, что я на него смотрю, и злобно сплевывает.
— Че лыбишься, падаль?
Я не хочу отвечать. Хочу просто молчать и смотреть, чем кончится. Но все так… идеально складывается. Меня аж потряхивать начинает в предвкушении.
— Ваша фамилия… — я киваю на жетон у него над карманом, — Ковалев?
— Да, его фамилия Ковалев. И че? — рычит мне в ухо тот, что держит. — Пойдем, больной ублюдок. В отделе с тобой весело беседу проведут. Там тебя уже тридцать злых оперов дожидаются.
— Спорим, — пытаюсь я обернуться, но он хватает меня за шею, заставляя смотреть вперед. — А ваша — Басов. Я просто номер на вашем жетоне не разглядел, когда вы меня валяли.
— Ты мне больше нравился, когда молчал, — цедит он, толкая меня к «Патриоту», брошенному поперек тротуара. — Так что давай, пасть закрой, психопат.
— Так ваша фамилия Басов? — не унимаюсь я. — Потому что если да, то у меня для вас плохие новости. Для вас обоих.
Холодная сталь упирается в затылок. Ствол.
— Еще слово, и посмотрим, для кого тут будут плохие новости, гнида.
Он что-то кричит через плечо напарнику:
— Слышь, Михалыч? По-моему, задержанный пытается оказать сопротивление и сбежать. Еще и ствол у него, кажется...
— Ох, блин, точно! — подыгрывает тот.
— Ладно, ладно, все. Понял. Молчу.
Ствол давит сильнее. На секунду я даже думаю — а вдруг я ошибаюсь? Вдруг весь этот кошмар — просто у меня в голове? И вот сейчас все закончится.
Мы подходим к машине. Басов распахивает заднюю дверь и просто швыряет меня внутрь. Головой не приложил — и на том спасибо. Дверь хлопает. Я кое-как устраиваюсь сидя, пытаюсь найти положение, в котором наручники не так сильно впиваются в запястья. Бесполезно. По моим подсчетам, у меня минимум три перелома, гноящаяся дырка от пули в бедре, последствия пары сотрясений и ножевое в пояснице, которое чуть почку не задело. Про синяки и ссадины я вообще молчу.
Басов, а я уже точно знаю, что это он, садится за руль. Ковалев, отдышавшись, грузно плюхается на пассажирское сидение. Они молча переглядываются. Мне этот их взгляд не нравится.
— Я могу вам кое-что показать. То, что вам обоим стоит увидеть.
— Заткнись нахрен.
— Это поможет все прояснить.
Я понимаю, что хожу по лезвию. Обычно я стараюсь не вмешиваться. Больше свидетель, чем участник. Хотя мои переломы говорят об обратном.
— Прояснить? — Ковалев почти пришел в норму и криво ухмыляется. — А чего тут прояснять? Доказательств, что ты во всем этом замешан, — выше крыши. Двадцать семь трупов, а ты, гражданин Бобров Константин, постоянно где-то рядом.
— В лучшем случае на периферии.
— Периферия! Слышь, Борис? Он на периферии! — Ковалев разворачивается в кресле и сверлит меня взглядом через решетку. — Люди на «периферии» двух десятков смертей не светятся на камерах с каждого, мать его, места преступления. Так ведь?
— То есть меня обвиняют в убийствах? Двадцать семь эпизодов?
Они опять переглядываются. Я вздыхаю.
— Ладно. Я подозреваемый. Это я понял. Но в чем конкретно? В убийстве? Ни один из вас не сказал слова «убийство». Вы все время говорите «смерти». И я знаю, почему. — Я жду. Они молчат. — И вы оба знаете, почему. Потому что ваш эксперт так и не смог определить, убийства это или несчастные случаи.
— Двадцать семь жмуров в восьми разных местах, и ты привязан к каждому, — рычит Басов. — Нифига не похоже на несчастные случаи. Хватит с ним трепаться. Поехали в отдел.
Он сдает с тротуара и направляет машину к центру. Это именно городишко, не город. Случись все это в Москве или Питере, никто бы и не заметил. Каракули приняли бы за очередное граффити. Трупы бы никогда не связали. Но это не Москва. Это какой-то сраный Усть-Зажопинск. «Сонный городок», как любят говорить местные. Так и было, пока не появились каракули.
Я не знаю, видел ли их кто-то еще в самом начале. Но мне кажется, у меня просто не было шанса их не заметить. Не после того, как появилось первое имя.
Меня пробирает дрожь.
— Замерз? Хреново тебе, — Ковалев все так же смотрит на меня.
— Слушайте, вы меня поймали. Все. Я в наручниках, в вашем бобике. Я вам ничего не сделаю. Я хочу сознаться.
— Нифига себе, — хмыкает Басов.
— Так что вам ничего не стоит сделать небольшой крюк. Это почти по пути. Если я, раненый, готов отложить медпомощь, вам не кажется, что я хочу показать, что-то важное?
— Кто тебя знает, что в башке у такого психа, как ты.
— Сделайте это, и все сразу станет ясно. Поверьте мне.
Они ржут. Громко. Слишком громко. Думают, раскрыли громкое преступление. А на самом деле вытянули самый хреновый билет в своей жизни. По-хорошему, мне бы заткнуться. Сидеть и ждать. Но в этот раз все по-другому. В этот раз я не на периферии.
— Ладно. Не верите, — я жду, пока они отсмеются. — Как насчет сделки?
— Ты издеваешься? С чего нам с тобой сделки заключать?
— Потому что вы хотите ответы. А у меня они есть.
— Мы их и в отделе получим.
— А в отдел ехать вовсе не обязательно. Просто отвезите меня на улицу Бурденко, под путепровод, где она под Двести тринадцатым шоссе проходит. Знаете место?
— Знаем. Но мы тебя туда не повезем. Последнее предупреждение, урод.
— Сделка вот в чем, — я иду ва-банк. — Пока мы едем в ту сторону, я рассказываю вам все, что знаю про каракули и смерти. Мы где сейчас? На Коллонтай. Времени вагон. И когда мы приедем под путепровод, ответ на все будет прямо там. Клянусь.
— Ты клянешься? Ну тогда ладно, — Ковалев отворачивается. — Долбаный псих.
Я делаю несколько глубоких вдохов. Просто так они не согласятся. Нужен стимул.
— Там новые каракули. Которые вы еще не нашли. Последние. — Я надеюсь, что последние. Господи, как я надеюсь.
— Когда ты их написал? Сегодня? Вчера?
— Я их не писал. Даже больше скажу — я ни одни из них не писал.
— Но почерк твой. Объясни это.
— Он только выглядит как мой. Для вас он выглядит как мой. А я вижу почерк своей мамы. И это самое жуткое, учитывая, как она умерла.
Они снова переглядываются. Кажется, появился интерес? Я тут же вцепляюсь в это.
— Подумайте, что скажет ваш начальник, когда вы принесете ему мою явку с повинной. Я все расскажу. Отказываюсь от всех своих прав.
— Правда? Ты это под запись скажешь?
— Я все скажу под запись. — Я оглядываю салон. — Машина же пишется? Камеры есть? Все будет на флешке. Вы вдвоем раскроете самое громкое дело в истории города.
Снова взгляд. Потом Ковалев опять пялится на меня.
— Если ты пытаешься нас развести, запись может случайно стереться. И никто не узнает, что с тобой на самом деле случилось. Понял, о чем я?
— Как я могу вас развести? Я здесь, в наручниках. Вы там, со стволами и ксивами. Расклад сил предельно ясен.
Они даже не смотрят друг на друга. Басов круто выворачивает руль, разворачиваясь через сплошную.
— Хрен с ним. По Плеханова срежем. Быстрее будет.
— Так мы едем к путепроводу?
— Похоже на то. И ты лучше начинай говорить.
Я киваю. Прокашливаюсь.
— В это сложно поверить, так что... просто слушайте.
— Просто расскажи, как ты это сделал. Как ты выкачивал из них всю кровь, до последней капли, и нигде не капли ни осталось? В отделе все хотят знать этот твой фокус.
С чего начать? С начала. Но с какого? С моего или с каракулей?
— Как думаете, кто был первым?
— Твою ж ты, он опять за свое. Борис, вези в отдел.
— Вы думаете, та парочка с собакой? Те два тела под мостом у лесопарка? Где собака была привязана к женщине и выла, пока ее не нашли?
— То есть, пока ты ее не нашел, урод. Какой сюрприз.
— Ладно, ладно. Тут я соврал. Я их не находил. Я уже был там, когда это случилось.
— Когда «это» случилось? ЧТО ТЫ С НИМИ СДЕЛАЛ?
— НЕТ, НЕТ! — я мотаю головой. — Вы меня торопите. Я хочу рассказать про первые каракули. И про первую жертву. Про то, с чего все началось. А началось не с них.
Басов сворачивает налево. Времени у меня мало.
— В доме пахло яичницей и растворимым кофе. И ментолом. Так было каждое утро. Мать жарила яичницу с «Докторской», заваривала банку «Нескафе». Мы садились за стол на кухне и читали газету.
— Газету? — ржет Ковалев. — Борис, я хрен знает, когда последний раз газету в руках держал. А ты?
— Только когда мангал разжигаю.
— Это был наш ритуал. Читать газету пока завтракаем.
— Тебе сколько лет, урод? Все с мамочкой живешь?
— Больше нет. Вы оба поймете, почему, если дадите мне закончить.
Я не обращаю на них внимания.
— Мы читали газету, как обычно, когда я поднял глаза и впервые увидел каракули.
— У тебя в квартире? — Ковалев вдруг напрягается.
— Да. В маминой квартире. На стене в кухне.
— Окей. И что там было написано?
— «Доброе утро».
— И все?
— Сначала — да. Просто «Доброе утро». Я думал, мне мерещится. Мать увидела, что я уставился в стену, обернулась. Она была в ярости. «Ты что, сдурел, Костик? Это ты на обоях начеркал?!» — заорала она, вскакивая так резко, что ее стул с грохотом упал. Я опешил. Не знал, что сказать. Я этого не делал. Когда мы садились завтракать, надписи не было. Клянусь.
— И что потом? — смеется Ковалев, хлопая Басова по плечу. — Дай угадаю, Борис, что было дальше? Уверен, там какой-то неожиданный поворот.
— Ох, Михалыч, сложный вопрос. Наверное, я не настолько умен, чтобы догадаться.
— Придется мне, — Ковалев снова поворачивается ко мне. — Костя, ты убил свою мать?
— Не я. Нет, — я мотаю головой, снова и снова. — Это каракули. Убили ее прямо там, на кухне. Но потом, конечно.
— Конечно. После чего, психопат?
— После того, как каракули изменились.
— Изменились? Как?
— Сначала там всегда простое сообщение. «Доброе утро». Или «Привет, как дела?». Или «Хочешь анекдот?».
— Анекдот? Какой нафиг анекдот?
— Неважно. Эти слова — просто чтобы привлечь внимание. Мое внимание. А как только они его получают, они меняются. Обычно на одно и то же требование. Всегда какая-то версия фразы: «Приведи мне такого-то» или «Мне нужен тот, кого зовут так-то».
— Нифига не то написано на стенах, когда находят трупы, — Ковалев качает головой. — Борис, этот хрен нам просто заливает. Давай свернем в тот переулок, привалим урода и в мусорку скинем. Дело станет висяком, но хоть больше трупов не будет.
— Неплохая идея.
— Убьете меня — ничего не остановится. Убийца не я. А каракули. Просто дослушайте. Все встанет на свои места. Далеко еще?
— С километр, — Басов сворачивает на Мончегорскую.
— Ладно, я быстро. Первое сообщение — приветствие. Второе — требование. Требование, которое я должен выполнить, иначе… — я стонаю, просто вспомнив это. Фантомная боль скручивает тело. Мысль о том, что они со мной делают, если я ослушаюсь, заставляет хотеть свернуться в клубок.
Ковалев снова бьет по решетке.
— Говори, мразь!
— Если я не делаю, как они просят, мне становится очень, очень плохо. И они попросили маму.
Оба мента молчат. Я продолжаю.
— Точная фраза была: «Приведи Боброву Карину Игоревну». На секунду я не понял, о чем речь. Но тут мама начала орать на меня, тыкать пальцем в надпись. И я как-то… разозлился. И, кажется, толкнул ее. Несильно. Она отшатнулась назад, и ее рука коснулась слов. И тогда… — я делаю глубокий вдох, заставляя себя вспомнить то утро. — Каракули ожили.
Мой голос становится тихим.
— Слова превратились… я не знаю, как это назвать. Щупальца, веревки… — я сглатываю. Во рту пересохло. — Вены! Во что бы они ни превращались, они быстрые и сильные. Они обхватили маму, и… ну, вы знаете.
— Нет, Костя, мы не знаем. Поэтому мы и хотим услышать, как ты это скажешь. И лучше побыстрее, мы почти приехали.
— Да. Ладно. Да. В общем, они ее схватили. Вены, в которые превратились слова. Они просто схватили ее, она кричала, вырывалась, звала меня, а я… я не мог. Не мог ей помочь. — Меня всего трясет. — Я мог только смотреть, как эти вены не просто обвивают ее, а… проскальзывают внутрь. Под кожу. Через глаза, нос, уши, рот.
Я кашляю, меня мутит от воспоминаний.
— Звуки — это худшее. Этот сосущий звук… когда оно пьет. А это все, что оно делает. Пьет. Оно выпивает их досуха, до последней капельки. Потом отпускает. И исчезает, оставляя последнее сообщение: «Спасибо. Приятного аппетита».
Напряжение в машине растет. Менты молчат.
— Я вижу эти слова каждый раз, когда закрываю глаза. С тех пор, как вены забрали маму.
Басов делает еще один поворот. Мы в паре кварталов.
— Когда оно закончило пить, оно просто отпустило. Вены распутались. И то, что осталось от мамы… просто шелуха. Она стала такой маленькой, белой, сморщенной. Ее тело скорее спланировало на пол, чем упало. В ней просто ничего не осталось.
Я видел, как мы подъезжаем к путепроводу.
— Я не знал, что делать. Просто стоял и смотрел то на мамино тело, то на слова на стене. Наверное, несколько часов простоял, а потом просто побежал. Выбежал из кухни, через наш двор, в переулок, и бежал, бежал, пока не добежал до парка, где нашли ту парочку с собакой. Да, туда. Я прибежал, а слова уже были там, под мостом. А потом подошла эта пара, и я просто спросил, не Лиля ли и Марк их зовут. И это были они. А потом женщина увидела слова, сказала, что им пора. А мужик спросил, какого хрена мне надо. А потом вены, так много вен, просто облепили их, прижали к стене, и пили, и пили, и пили…
— Мы на месте, — Ковалев, кажется, рад прервать мой рассказ.
Мы все смотрим вперед. Фары выхватывают из темноты слова на толстой бетонной опоре.
«ПРИВЕДИ МНЕ КОВАЛЕВА М. НОМЕР ЖЕТОНА "654079 ТВБ" И БАСОВА Б. НОМЕР ЖЕТОНА "802536 ССП" .»
— Ты охренел? — Басов поворачивается ко мне. — Как ты узнал наши имена до того, как мы тебя спеленали? Ты что, следил за нами? Написал наши имена, а потом подстроил все так, чтобы мы тебя задержали? Господи, какой же ты больной…
Лобовое стекло трескается. Маленькая дырочка, из которой торчит тонкий, как игла, отросток вены. Он пробил стекло. И следом пробил затылок Басова. Теперь он торчит из его левого глаза. Извивается немного.
— Боря… — выдавливает из себя Ковалев, когда вена скользит ниже и обвивает шею Басова. — Что за?..
Я знаю, что сейчас будет. Лучше бы не смотреть. Но я знаю, какая будет расплата, если я отвернусь. Мои кости это хорошо знают.
Голова Басова отрывается с глухим хлопком. Вена стягивается и с силой уходит обратно в дырку в стекле, срезая шею начисто. Кровь фонтаном бьет в обивку потолка, заливая Ковалева, потом меня.
Ковалев визжит, ревет, пытается нащупать ручку двери. Он колотит по ней снова и снова, пытаясь выбраться из этой машины-скотобойни. Но не успевает. Лобовое разлетается вдребезги, и сотня вен врывается внутрь. Они выхватывают тело Басова с водительского сиденья, почти разрывая его пополам, когда выдирают из-за ремня безопасности.
— О господи! ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА!
Тело Басова они протаскивают по капоту, по мокрому асфальту, поднимают в воздух и прижимают к стене. Вены стягиваются все туже, туже, туже.
— Выпустите меня… — Ковалев наконец справляется с ручкой, бросает на меня растерянный взгляд, вываливается из машины и падает на четвереньки. Пытается уползти.
Я качаю головой. Не он первый так делает. Вены не терпят трусости. Они набрасываются на него с яростью, которую я видел всего пару раз. Каждую его конечность пронзает с десяток вен. Они заползают с одной стороны, выходят с другой. Я смотрю, как они обвивают, и обвивают, и обвивают его, пока его туловище не превращается в извивающийся, корчащийся ком кровавых отростков.
Я пригибаю голову за секунду до того, как происходит то, что должно произойти. Вены сжимаются изо всех сил. Ковалев лопается, как сырое яйцо в микроволновке. Голова летит в одну сторону. Ноги — в другую. Туловище — во все.
Все, что я могу — сидеть и ждать. Венам не до меня, пока они не наедятся. А они едят. Тела высасывают досуха. Когда изуродованные и расчлененные трупы опустошены, вены принимаются за уборку. На это мне смотреть не обязательно. Я должен видеть только убийство.
Я закрываю глаза и слышу, как они вылизывают, впитывают, соскребают всю кровь. Абсолютно всю. С асфальта, с капота, с салона машины. С приборной панели, с руля, с потолка. Когда шумы затихают, я открываю глаза. «Патриот» чище, чем был до того, как меня сюда запихнули. Ни единой капли. Мой взгляд падает на новые каракули на опоре.
«СПАСИБО. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА».
Ну да, не за что. Большая проблема. Я, блин, в наручниках в полицейской машине.
От слов на стене отделяется один отросток. Он медленно ползет по асфальту к машине, на капот, через разбитое лобовое, через решетку и замирает перед моим лицом. Прежде чем я успеваю что-то сделать, он метнулся к моим рукам. Щелк, щелк. Я свободен. Вена уходит. Дверь справа от меня открывается. Я не раздумывая выбираюсь наружу. Везде разбросаны высохшие куски тел. Пытаюсь на них не смотреть. Но не получается.
— Спасибо, — бормочу я словам на стене, обхватывая себя руками и уходя в ночь. — До следующего раза.
Я всегда так говорю. Хотя каждый раз молюсь, чтобы следующего раза не было. Но он есть всегда. Всегда!
Как сейчас.
Я заворачиваю за угол и вижу на белой кирпичной стене красные буквы: «Добрый вечер. Готов с нами попрощаться?».
Что это значит? Я никогда такого не видел прежде.
Слова меняются, и я обмочился, когда увидел, во что они превратились. А потом меня накрывает принятие.
«ПРИВЕДИ МНЕ КОСТЮ БОБРОВА».
Надпись сделана другим почерком.
— Прошу прощения, — ко мне подходит девушка. Капюшон ее худи промок от дождя. — Вы Костя Бобров? Я очень надеюсь, что да, потому что я вас уже заждалась.
Я даже не успеваю спросить имя своей «сменщицы». Вены взрываются из стены и заключают меня в свои голодные объятия.
Страх и принятие сменились облегчением.
Наконец-то!
Объект
видео "khrushovka" Andreeva Varvara
В разных странах, с паузами в несколько дней, обычные люди внезапно переставали узнавать окружающих. Для одних близкие выглядели как уродливые существа. Для других - как опасные объекты, которые нельзя оставить рядом. Иногда без криков. Иногда без спешки. Просто действие, которое казалось единственно верным. Психиатрия не находила объяснений. Инфекций не было. Повреждений мозга - тоже. Сознание оставалось ясным до конца. Случаи не нарастали волной. Они шли по очереди. Регион за регионом. Будто кто-то тестировал процесс, следя, чтобы он не привлекал внимания. Единственное отклонение обнаружили в небе. Небольшой объект на орбите. Он не вмешивался в работу техники и не передавал сигналов. Он просто появлялся там, где через несколько часов происходил очередной срыв. Позже стало ясно: объект не уничтожал людей. Он отключал способность распознавать своих. Остальное человечество выполняло самостоятельно.