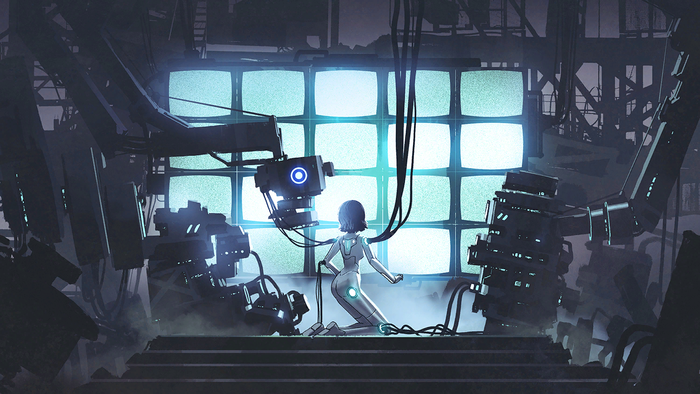То, что глобализация в том виде, как её “продавали” всему миру, закончилась, поняли, кажется, уже почти все, кроме, естественно, российских “сислибов”, этих “вечно позавчерашних” российской политики. Но значит ли это, что мы быстро, хотя и явно болезненно, войдём в новую систему глобальной политики, построенную на полном отрицании глобализации? Глобализация сама по себе была отрицанием предшествующей модели глобального развития — индустриального империализма, капитализма больших пространств. Значит ли это, что новый мир будет отрицанием глобализации и как явления, в основе своей — социального, и как формата организации взаимоотношений ключевых мировых игроков? Или же мы попадём в сложный, как сейчас принято говорить, “гибридный” мир с множеством точек бифуркации, и эти точки в разных областях деятельности человека и человечества — экономике, политике, культуре, социальном развитии — будут не совпадать во времени и пространстве? Ведь относительно грядущего мира несомненным является лишь один принципиальный элемент: это неизбежность конкуренции различных игроков и, более того, различных типов игроков в системе мировой экономики и политики, за контроль над пространством и ресурсами. Но как будет проходить эта конкуренция, где, какие пределы она будет иметь и будут ли существовать в принципе пределы конкуренции, это пока является глубочайшим фактором неопределённости.
Отправная точка: когнитивный капитализм был попыткой попробовать виртуальную экономическую реальность и понять возможные социальные последствия этого. Он был не про “базис”, он был про “надстройку”, и характерно, что все наиболее заметные и значимые изменения в капитализме последних 50 лет были про “надстройку”: про общество и те связи, что оно способно породить и устойчиво поддерживать. И в предкризисное состояние эту модель капитализма ввели не экономические проблемы, а социальные. И пандемия оказалась и не первой, и не главной среди них.
Общество на фоне глобализации
Что такое общество? Общество, если отбросить детали, есть люди, помещённые в определённое пространство и создающие между собой специфические, определяемые средой и традицией связи. Всё остальное — детали, лишь оттеняющие суть. Хотя исторические механизмы формирования этой центральной сути и могут быть весьма различны.
Социализм, по понятным причинам отрицавший учение А. Тойнби о “вызове-ответе” как источнике развития цивилизаций, ещё ехидно добавлял к этому некое эфемерное понятие — “время”, призванное доказать его преимущества, говоря о том, что социальные связи историчны. Они существуют не только в пространстве, но и во времени, и меняются под влиянием некоего “базиса”. А этот базис, если обобщать, был овеществлённым временем. В чём-то социализм и его адепты были правы: характер возникающих связей и их особенности (устойчивость, темп развития коммуникаций и многое другое) определялись не только средой, но и технологиями. Правда, технологии как социальная и философская сущность социализму так и не дались. Их пытались приткнуть в различные места марксистской теории, а в какой-то момент даже выдумали идею об отсутствии морального старения техники при социализме (похоже, “в пику” Максу Веберу, технологизировавшему социальность), правда, относительно быстро опомнились, попытавшись свалить, как обычно, на успевшего умереть И.В. Сталина. Но был — в русском изводе социализма особенно — и “космизм”, проекция коммунистического “завтра” к звёздам как высшая степень индустриальности, ставившая технический прогресс чуть ли не выше теории марксизма-ленинизма. От Константина Циолковского через Александра Богданова до Ивана Ефремова коммунисты-космисты заставили три поколения партаппаратчиков думать, что с этим космизмом делать. Но в целом, безотносительно “культа личности”, “философия технологий” социализму оказалась не по зубам. Ни позднему, ни раннему. И, если ранний социализм относился к технокоммунизму как к забавной, но не вредной флуктуации, то для позднего “упитанного” брежневского это была проблема. Именно поэтому поздняя советская власть детективы любила больше фантастики, хотя по логике должно было быть наоборот. Если, конечно, считать, что социализм был строем будущего.
Капитализм оставался одномерным, чисто пространственным явлением, поскольку его идеологи искренне исходили из того, что пространство может меняться, а люди — нет (и здесь во многом были правы), но главное, из того, что характер отношений между людьми изменить невозможно. Джон Гобсон написал эту нехитрую вещь практически прямым текстом. Его “Империализм”, изданный в 1902 — есть гимн пространственной экспансии “белого человека”, освоению и переформатированию пространства “цивилизацией”. Только вчитайтесь в эти строки:
“Когда мы познаём истинный процесс распространения и обогащения идей, искусств и учреждений [институтов — Д.Е.] — этих наиболее зрелых плодов народного духа — только тогда мы осознаём разницу между законной территориальной экспансией, а вместе с тем и подлинное значение империализма”.
Это вам не Киплинг. Это — покруче будет.
Подобная откровенность, думается, и вдохновила Ильича на концептуальный парафраз идеи пространственной экспансии. Кстати, у Ленина в “Империализме как высшей стадии капитализма” впервые и мелькнула (но только мелькнула) мысль о возможной постпространственности глобального порядка, где вывоз товаров сменяется вывозом капитала и непосредственный контроль пространства колониального мира не является уже столь критичным. Но развития она не получила, в противном случае, Ильич бы стал основоположником не только практического социализма, но и неоколониализма, что было бы весьма забавно, но исторически логично.
Вернёмся к капитализму. Фраза, которую мы часто слышали от людей, стоявших на “правильной стороне Истории”: “все так живут”, — в действительности отражала глубинную суть того, что стало называться капитализмом в XXI, да и во второй половине XX века: неизменность фундаментальных принципов, внеисторичность и универсальность.
Восприятие времени в капитализме было откровенно хайдеггеровское. Помните, как он говорит про публичность и любопытство, как средство познания повседневного мира и мостик к миру историческому? На русский это перевели, как “вот-бытие”, перевод, наверное, не точный, но это не важно. Этот вариант перевода предельно чётко — убийственно чётко — отражает ощущение “мира вечного сегодня”, где надо было постоянно инвестироваться не вполне понятно “куда”, чтобы было на что потреблять в новом “сегодня”. Похоже, сила капитализма и была в абсолютизации повседневности — мечте обывателя. А обывателем ранее как раз и называли квалифицированного потребителя. Но это восприятие времени и заложило в капитализм своеобразное восприятие общества. Капитализм был явлением пространственным, допускал некую иерархичность развития (социально-экономическую “глубину”), но время… Нет, осознанию времени как цивилизационного измерения капитализм был принципиально чужд, для чего и выдумано было Карлом Ясперсом “осевое время”, которое и не “время” вовсе, а просто шкала координат, где выстраивались пространственные компоненты (количественные и качественные), формируя некую “иерархию прогресса”. Отсюда, кстати, и неизбывная любовь капитализма в любом изводе к разного рода рейтингам.
Беда социализма в том, что он не очень верил в свою двухмерность, постоянно пытаясь доказать, что мир абсолютно материален и даже время — и социальное, и исторически — познаваемо. Страх перед тем, что можно было бы назвать идеализмом, сам по себе у мейнстримных марксистов носил иррациональный характер. Поэтому и был затравлен Э. Ильенков, всего-то сказавший, что отражение мира в нашем сознании не всегда есть, собственно, этот мир, а нечто, дополненное нашим воображением, проекцией в наше сознание и социальных стереотипов, присущих нашему обществу, унаследованных нашим обществом, и наших личных мозговых “тараканов”. Сейчас, когда мы познакомились с теми “бета-версиями” виртуальной социальной реальности, возможности доступа к которым создает современное информационное общество, эта мысль кажется банальностью.
Социализм мельтешил с форматами, подстраиваясь под изменения вмещающего социального ландшафта. Социализм должен был быть “реальным”, то есть, привязанным к истории и текущим обстоятельствам. От того и появлялись эти бесчисленные страновые и региональные вариации “с национальной спецификой”, “евросоциализмы”, “социализмы с человеческим лицом” и прочие попытки если не осмыслить, то хотя бы лексически обозначить перспективы развития. Капитализм был фундаментален, как лондонский Сити, высечен в граните, как дореволюционное надгробье на купеческом кладбище. Но эта фундаментальность, как оказалось, была всего лишь отражением изменчивости социализма, одновременной рефлексией изменчивого — хочется сказать, ускользающего — социализма и рефлексией на тему, почему капитализм не может быть таким же. Потому, что не может, — таким, вероятно, был бы краткий ответ.
И в этом была фундаментальная разница между двумя моделями. Разница, игравшая в текущей конкуренции в пользу капитализма. Нет, конечно, глобализация была неизбежной, во всяком случае, с точки зрения экономики. Но было неизбежно и возникновение идеологии глобализации, которую американцы — во всяком случае, левые и те, кому сказали быть левыми — обкатывали с начала 1970-х в виде теории конвергенции, смертельно напугавшей советских идеологов. Вспомним, какую оторопь в просвещенных коммунистических кругах произвела книга Элвина Тоффлера (он был, конечно, из тех, кому сказали быть “левым”, но это не делает его менее великим футурологом) “Третья волна”, изданная в 1980 году. Распад “коммунистического мира” и всеобщее увлечение потребительством, что также есть вариант идеологии, несколько увёл это на второй план, но ненадолго. И обратим внимание на то, что по мере укрепления глобальной составляющей в политике и экономике мира капитализм начал становиться всё больше социализмом. Нет, не на уровне основных своих принципов, хотя и там было на что обратить внимание, но на уровне идейного, а, фактически, — идеологического обеспечения.
Но, как обычно, когда мы говорим о глобальном развитии, был нюанс.
Социализм мог играть с абстракциями смыслов, формируя картины грядущего. Капитализм был до предела конкретен — и в этом была суть исторической конкуренции. На чашах весов общественной психологии сошлись будущее и повседневность. Социализм предлагал мечту, через осуществляемые советской властью “большие проекты” (здравоохранение, образование и другие) становившуюся реальностью для каждого или почти каждого человека. Капитализм прямо, цинично и, как оказалось в конце концов — убедительно, доказывал, что единственная мечта это — деньги, вернее, возможность и способность их зарабатывать. А остальное — от лукавого, то есть от Ленина и его менее удачливых наследников. Что во многом было чистой правдой. Социализм безнадёжно обыгрывал капитализм в “образах будущего”, капитализм, также безнадёжно обыгрывавший социализм в эффективности производства и масштабах потребления, пытался успешно заменить качественное развитие количественным ростом потребления (помните знаменитое: “Америка — страна трёх машин на семью и “первая” меняется раз в три, нет, два года”?), и у него это получилось.
На время. Оказалось, что без будущего, то есть без отрефлексированного времени, жить всё-таки проблематично.
Тупиковая ветвь эволюции
“Управляя пустотой”, — так называлась книга очень заметного европейского социолога Питера Майра (1951–2011)3. Майр писал о выхолащивании классической демократии. В конечном счёте никто никогда не говорил, что потребитель, даже социально включённый потребитель, обязательно должен быть гражданином, то есть иметь права, выходящие за рамки прав потребления и базовой социальности. Но, в действительности, Майр затронул гораздо более широкую проблему существования в капитализме одновременно и структурной, и содержательной “воронки” под названием “эффективность”, отражающей абсолютный примат извлечения прибыли, ради чего можно пожертвовать вообще всем. Первой пожертвовали представительской демократией, превратившейся в процесс институционализации доминирования определённых лоббистских кланов. И в этой борьбе победили те, у кого путь к прибыли был самый короткий: сперва финансисты, а затем, — и коммуникационщики. Но затем, неминуемо, пришло время экономики как таковой.
В экономике всё было сложнее. Из постоянно сокращающегося “ядра” когнитивного капитализма, которое к 2010-м года стало меньше чем даже национальная территория США (“ядро” скукожилось до постиндустриальных мегаполисов двух побережий США и полдюжины постиндустриальных же анклавов в разных частях света — не говоря уже о процессах социальной поляризации внутри даже этих узких “ядрышек”) начали вымываться все сегменты экономики, где “эффективность” (что это такое — до конца никто не знал) была ниже запланированной финансистами, в глаза не видевшими ни одного завода. Процесс многократно описан, и не будем тратить на него время, отметив, впрочем, что он политически прикрывался бесконечными спорами “консерваторов” и “либералов”, на чём сделало карьеру, вероятно, два поколения “блистательных экономистов” и возникли целые школы — например, Чикагская. Один из её основателей, Джордж Стиглер, в 1982 году получил Нобелевскую премию по экономике. И получил заслуженно, поскольку определил политэкономический мейнстрим на добрые 20 лет вперёд.
Надлом случился в 1999 году, когда из-под пера одного из идеологов победившего капитализма Энтони Гидденса вышла чудовищная для всех базовых постулатов капитализма книга “Ускользающий мир”4. Из неё выяснилось, что капитализм дальше не может оставаться настолько же неизменным, насколько он был последние 200 с лишним лет. Выяснилось, что главной ценностью “Мира капитализма”, подчеркнём, не просто победившего, а на тот момент — если не считать рудиментов социализма вроде Кубы и КНДР и, частично, Вьетнама — единственного “мира”, предлагавшегося человеку, стала демократия. Это было прямым признанием того, что “без идеологии нам смерть” (в оригинале — “без теории”, но по сути — именно без идеологии), но только прозвучавшее из уст одного из наиболее ярких и умных социологов тогдашнего западного мира. Гидденса после кризиса 2008–2009 годов дополнил один из самых респектабельных экономистов-глобалистов Майкл Спенс, заговоривший о “новой конвергенции”. Под ней он понимал необходимость преодоления системных диспропорций глобализации. Этому предшествовало появление концепции “четвёртого мира”, если по-простому — той части социально-экономической Ойкумены, которую предлагалось признать неспособной к развитию и просто из развития исключить. Глобализация — а значит, и та модель развития, “по соглашению сторон” признаваемая “капитализмом” —
становилась неуниверсальной не только структурно, но и пространственно.
Суть капитализма с необычной для себя глубиной изложил Славой Жижек:
“…Капитализм как социальная формация характеризуется структурной несбалансированностью: антагонизм между силами и отношениями присутствует здесь с самого начала, и именно этот антагонизм толкает капитализм к постоянному само-революционизированию и само-расширению — капитализм процветает потому, что избегает своих оков, ускользая в будущее”.
В чём-то это даже откровеннее Гобсона. Понятно, время наступило другое, но без лукавства идеологи капитализма, а Жижек, как минимум, на это претендует, и здесь не смогли. Капитализм, конечно, переживал революционные изменения, но сбегал от неприятностей актуального мира не в будущее. Он от них сбегал в соседнее пространство, где мог быть самим собой — жёстким и циничным хищником, для которого и своя жизнь — копейка, да чужая головушка — полушка. Но “дома”, в “ядре” системы, с некоторых пор — уточним, с 1917, а особенно с 1945 года — надо было вести себя прилично.
Географическая, пространственная экспансия была естественным средством экспорта внутренних противоречий капитализма всегда. Просто к концу XX века этих противоречий стало слишком много: универсальность капитализма, захватывавшая всевозможные сферы человеческой деятельности, до чего она только могла дотянуться, плодила их, где могла. Фундаментальная негибкость форматов капитализма здесь, конечно, сыграла пагубную роль. Здесь и сказался отказ от конвергенции, о чём страдали многие умные люди в Европе, понимавшие, чем дело может кончиться.
Почему капитализм захотел стать немного социализмом, понятно. Капитализм достиг почти пределов своего географического расширения. Оставалась только Африка, но её заблаговременно объявили “четвёртым миром”, куда без ЧВК “нормальная” экономика зайти не может — смельчаков типа Теодора Рузвельта на коллективном Западе оставалось всё меньше и меньше. Африка — вообще интересный пример. Туда в формате неоколониализма сбрасывали противоречия капитализма больше полувека. А когда Азия стала проходить фазу промышленной модернизации, “драконы” вышли на её вторую фазу, а в Латинской Америки забушевали левосоциалистические революции — только она и осталась глобальным “шламовым амбаром” для всего того, что Запад не хотел иметь внутри системы. В результате континент, который в действительности больше, чем просто континент, а целая цивилизация с “продолжениями” и в Америке, и в Европе, и даже в Латинской Америке, оказался хаотически загромождён разнотипной социальностью, экспортированной туда всеми, кому не лень: от Советского Союза в 1960–1970-е годы до Китая 2010-х. Не самое благоприятное место для экспорта внутренних противоречий капитализма. Может и “обратка” прилететь. Кстати — и прилетела после 2015 года. Не могла не прилететь. Кстати, выскажем нехитрую мысль: африканская цивилизация в последние 50 лет совершила самую серьёзную экспансию, захватывая и умы, и пространства, и социальные пространства, и сферы экономики (например, ряд важнейших криминальных и околокриминальных промыслов). И эта экспансия была именно экспансией социальности, экспансией моделей социального и социокультурного поведения.
В итоге, капитализм оказался перед стратегической развилкой. Можно было либо начать реализовывать “межимпериалистические противоречия”, о чём грезили коммунисты, выдававшие за них даже англо-аргентинский Фолклендский конфликт 1982 года. Но это при отсутствии “доминирующего врага” могло вырасти в полноценный внутривидовой каннибализм, грозивший, с учётом тогдашнего высокого уровня геоэкономической и технологической взаимозависимости западного мира, полноценным кризисом. И это было страшно. Либо надо было заняться перестройкой основ капитализма, на что намекал сам Гидденс, говоря о демократизации демократий — о демонтаже государства и традиций государственности в “странах развитого капиталистического мира”. В условиях рубежа XX–XXI веков (кто сказал, нападение на “Башни-близнецы” в Нью-Йорке?) социальное переформатирование обществ развитых стран выглядело вполне разумной и безопасной опцией.
“Демонтаж государства”, вернее, разрушение монополии государства на суверенитет, впрочем, оказался совершенно небессмысленной вещью: именно разрушение суверенитета окончательно вводило социальные отношения и политическую сферу в пространство коммерческого оборота.
Зигзаг капитализма, произошедший с ним в последние 20 лет, можно оценить хотя бы по тому странному обстоятельству, что глубоко замешанная на мистике книга главного социального провокатора Европы Жана Бодрийяра “Символический обмен и смерть” сейчас существенно более понятна читателю, чем в 1974 году, когда она впервые была опубликована. То, что было в 1974 году философской мутью, к 2010-м пришло в каждый дом и стало частью общества потребления, хотя и сейчас по прочтении вводит в оторопь перспективами виртуализации окружающей действительности.
Тут-то и выяснилось то, о чём недоговаривали апологеты когнитивного капитализма. Капитализм времён зрелой глобализации, ещё до её “угара”, был не для всех. Он был не то, чтобы только для лидеров в том понимании, которое этот термин имел в XIX — начале XX века, но для людей, способных к социальной самодисциплине. Иными словами, — для людей, способных понять, где ограничить своё участие в глобализации, вернее, в её конкретных проявлениях.
Остальных глобализация отпускала на волю неограниченного потребления (включая и ипотеку, которую в ряде стран надо выплачивать больше 100 лет), периодически создавая для них разного рода “отдушины”. От тех же покемонов до лотереи “гринкард”, якобы способной повысить социальный статус человека за счёт изменения его географического статуса. Но в целом сетевая глобализация мало заботилась о будущем людей, оказывающихся вне структур, являющихся главными “акторами” глобализации того или иного уровня.
Об этой тенденции говорит хотя бы общепланетарный процесс снижения качества, а главное — глубины образования, венчаемый идеей дистантности в образовании, — образования без учителя, наставника, без эмоций, с сухой и математизированной обратной связью. А ведь образование — это один из опорных камней социальности, находящихся в самом основании процесса формирования “человека социального”.
“Дистанционное образование” — просто иное, более политически корректное поименование “образования для бедных”. Для богатых и для их обслуги, людей, включённых в транснациональные постпространственные экономические и социально-гуманитарные системы, образование останется почти классическим, хотя тоже упрощённым до уровня способности подготовить внятную презентацию и управлять процессом, не понимая его сути. Но и за это пришлось бы платить. Обратим внимание, что многие “транснационалы” бездетны, слишком многие, чтобы это было просто случайностью. И слишком уж агрессивна пропаганда childfree в различных её проявлениях, включая возможность патронажа над неизлечимо больными детьми для тех “транснационалов”, у кого осталась потребность давать кому-то человеческую теплоту и заботу. Прекрасная с гуманитарной точки зрения идея, прикрывающая социальный ад постмодерна.
Бездетность, — отказ от права передать статус по наследству — плата за возможность быть включёнными если не в “золотой”, то в “позолоченный” миллиард здесь и сейчас и обладать возможностями того, что кажется “премиальным потреблением”. Только бездетный человек может выдержать темп жизни, характерный для “яппи интернационала”7, обслуживающего транснациональные системы, эти постоянные перемещения во времени и пространстве. Только бездетный человек готов взваливать на себя бремя оплаты настоящего образования. Только бездетный человек может спокойно относиться к перспективам нейрофикации себя самого, чтобы ещё эффективные выполнять свои менеджерские функции. У менеджерского и управляющего звена когнитивного капитализма, а особенно — у его политической надстройки, не должно было быть наследников. Нет, “технически”, с точки зрения “заполнения вакансий”, они, конечно, есть. Но каждый раз их в идеале должны были набирать заново, а не опираться, как это было ранее принято, на потомков “известных фамилий”. Вполне отражает социальную суть “мира вечного сегодня”, которым был когнитивный капитализм. И подбирать этих технически ротируемых управляющих должны были те, кто и стал главными бенефециарами этой модели, — хозяева (не обязательно — собственники) виртуализированных механизмов извлечения и монетизации всех видов ренты, в эпоху поздней глобализации сконцентрировавшихся, как муравьи перед дождём, в глобальном муравейнике информационного общества.
“Капитализм без наследников” — что может быть страшнее для экономической модели, изначально построенной на священности права собственности и возможности её накапливать из поколения в поколение….
Вот, уж, действительно, конец Истории.
Поиск решения
Итак, куда же мы идём? Откуда мы вышли понятно: из эпохи когнитивного капитализма. И виртуализация экономических процессов, не говоря уже о социальной атомизации, — была лишь верхней частью айсберга, увиденной нами издали, освещённой софитами. Почему? Наверное, потому что это был некий “тест на принятие”. Нам его хотели показать. Если общества развитых — подчеркиваю, именно развитых стран, а не “третьего” и “четвёртого” миров — примут когнитивный капитализм в его потребительском изводе, согласятся с виртуализацией социальных отношений, то всё остальное “зайдёт” гораздо легче. Почти незаметно. Но в силу ряда обстоятельств, изучение которых оставим историкам и социологам грядущего, проект “постпространственной глобализации” затормозил, а вместе с ним в социально-экономическом “воздухе” подвис и когнитивный капитализм. И нам теперь с этим жить, наблюдая за метаниями идеологов капитализма (того же К. Шваба) от готовности к созданию нового биологического вида человека (“служебных людей”) к рассуждениям, кого лучше первым внутрисистемно каннибализировать ради светлого капиталистического будущего.
Спойлер: нас, Россию. Мы обладаем теми “точками силы”, которые именно сейчас, на начальной фазе глобального переформатирования, могут “сыграть”.
Но, если кризис современного капитализма, как его ни назови, начался с деградации социальности, то, вполне возможно, и формирование новой модели экономических отношений тоже начнётся с социальных систем и отношений. Эта гипотеза, кстати, подтверждается тем прискорбным обстоятельством, что главным инструментом глобальных трансформаций стала технология “гибридных войн”, нацеленная не на военное поражение противника и конкурента, а на его социальную деструкцию вплоть до хаотизации. Но ведь мы уже говорили, что общество — это, прежде всего, люди, помещённые в некое пространство. Да, и время, конечно, потому что не бывает ничего более историчного, нежели времена перемен. Но что это будет за пространство, где сформируется новый человек, человек-носитель новой социальной модели поведения, выходящей не просто за пределы “капитализма потребления”, но и в целом — “цивилизации вечного сегодня”?
В известной советским студентам и школьникам работе “Очередные задачи Советской власти”, написанной весной 1918, заметный политолог, философ и выдающийся футуролог начала XX века В.И. Ульянов сформулировал подходы к реконструкции страны, экономика которой была не просто многоукладной, но мозаично многоукладной. В рамках одной большой экономической системы могли сосуществовать экономические субъекты, принадлежащие к де-факто конкурирующим экономическим укладам. Это не было свидетельством какой-то беспримерной смелости советских теоретиков: Гражданская война ещё только разгоралась и никто — после относительно мирного, за исключением Москвы — “триумфального шествия Советской власти” (оно не было ни “триумфальным”, ни “шествием”, конечно, но масштабы эксцессов были пока игнорируемы) — даже близко не представлял себе её возможные масштабы. А “социализация” промышленности (банки были национализированы сразу после октября 1917 года и это стоило в условиях военного времени сделать ещё царю) мыслилась лёгким, необременительным, почти механистическим инструментом. Тем не менее, констатация возможности трансформации многоукладности была очень важным моментом.
Но ведь многоукладность — это тоже было, скорее, не про экономику, а про социальные отношения, и именно ломкой социального уклада больше всего и агрессивнее всего увлекались большевики. А после войны именно строительством нового социального уклада пытался заняться И.В. Сталин, но….
Самое интересное, что, вопреки теоретику Ульянову и практику Ленину, многоукладность продержится в советской экономике довольно долго. Её начнёт энергично сворачивать только Никита Хрущёв, о склонности которого к троцкизму и во внешней политике, и во внутренней написаны тома. Но, тем не менее, до, как минимум, 1957 года, а в чём-то и дальше — советская власть вполне нормально сосуществовала с многоукладностью и использовала её в качестве инструмента обеспечения своего выживания. И это не только НЭП. Это ещё и послевоенное восстановление страны, когда относительная социально-политическая стабильность обеспечивалась не только бдительностью НКВД, но и занятостью населения в различных форматах хозяйствования, не всегда одобренных теорией научного коммунизма.
Вероятно, и в нынешнем случае при переходе от мира поздней, в чем-то перезрелой, глобализации нам придётся долгое время сосуществовать с её социальными, а, тем более, — экономическими порождениями. И если даже идеологически мотивированная Советская власть смогла найти общий язык с многоукладностью, повторюсь, системно враждебной коммунистической идеологии (напомним, как были интегрированы, сами того не зная, кооператоры и частники даже в сверхзакрытый “атомный проект”), то куда более прагматичной российской власти должно быть куда легче преодолевать рудименты глобальной сетевизации и атавизмы когнитивного капитализма.
Другой вопрос, что к многоукладности, остающейся актуальной и сейчас, более того, усиливающейся за счёт деструктивной социальной архаики и деиндустриализации значительных пространств, добавляется и многоуровневость конкуренции. Пространственный мир не означает, что мы будем вести конкуренцию только в пространстве. Это не отменяет значение конкуренции в информационном обществе, в сетевизированных экономических системах, — в первую очередь, — в финансах. Постглобальный мир станет гораздо более сложным структурно. Рискнём назвать систему, формирующуюся на наших глазах “пространственным постимпериализмом”. И о том, в чём его смысл, — предстоит долгий и непростой разговор. Но бумеранг всегда возвращается. Бумеранг упущенного в конце 1980-х годов шанса на неомодерн на базе разумной конвергенции, о чём говорил даже такой убеждённый, в чём-то радикальный западник, как А.Д. Сахаров, вернётся неизбежно, но ему должно быть куда возвращаться. Постимпериализм, геоэкономическая практика переходного периода от постпространственного глобального сетевизирующегося мира к новому геоэкономическому в основе своей миропорядку с элементами идеологии социальной модернизации, и есть способ подготовить такое пространство.
Дмитрий Евстафьев специально для Fitzroy Magazine