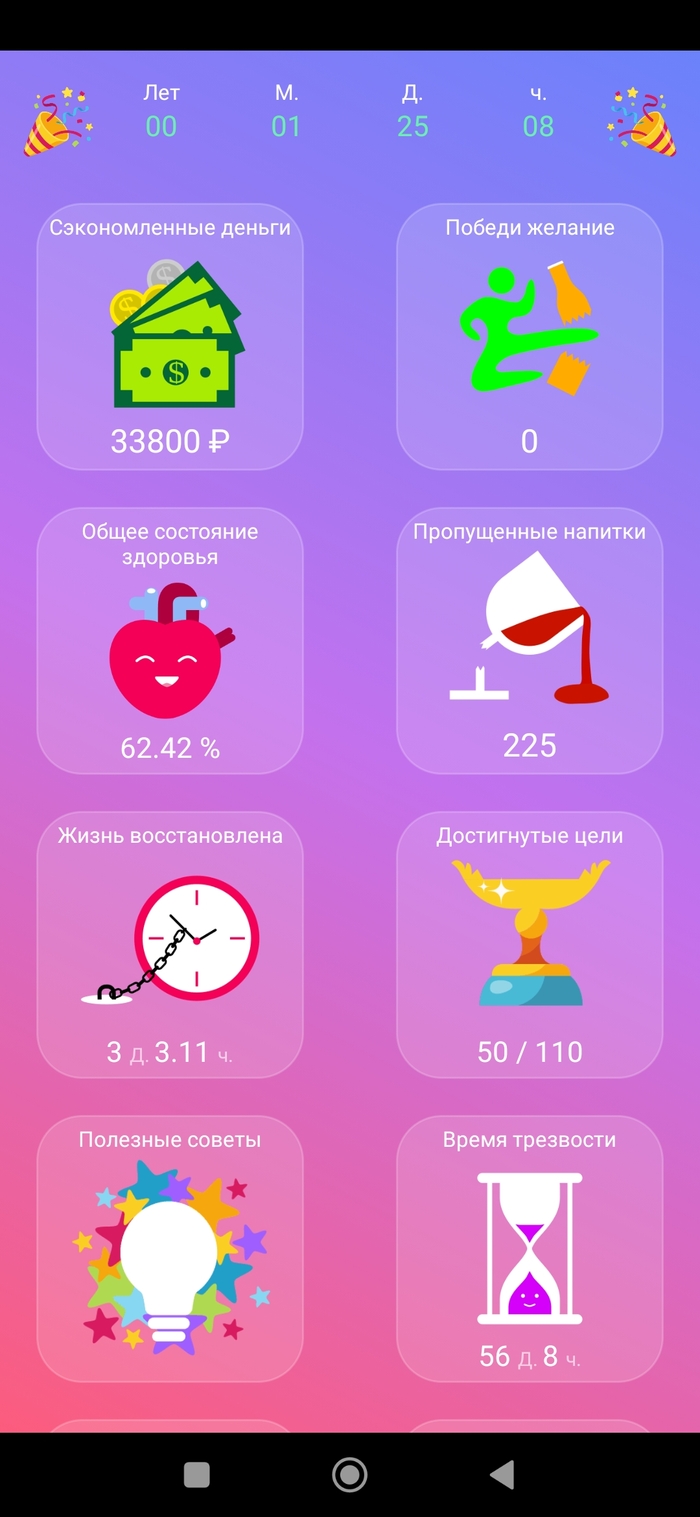В прошлой публикации мы говорили о том, что утверждает моноаминовая гипотеза, здесь поговорим о том, почему как она постепенно вышла из игры.
Если читать ранние работы по моноаминовой гипотезе в их историческом контексте, они выглядят не как законченная теория, а как предварительная исследовательская программа. Авторы предлагали возможные направления поиска, но не утверждали, что обнаружили устойчивый биологический механизм депрессии. Именно поэтому уже в 1960–1970-е годы стало ясно, что превратить эту гипотезу в операциональную теорию будет крайне сложно.
Первая проблема заключалась в слабой и плохо воспроизводимой связи между клиническими проявлениями депрессии и предполагаемыми нейрохимическими нарушениями. Ранние исследования, в том числе работы Алека Коппена, действительно сообщали о положительных результатах — например, об усилении эффекта антидепрессантов при добавлении триптофана. Однако последующие попытки воспроизвести эти находки в более строгих условиях систематически заканчивались неудачей. По мере накопления данных становилось всё труднее показать, что депрессивные симптомы устойчиво связаны с дефицитом какого-либо конкретного моноамина.
В 1980-е годы Национальный институт психического здоровья США (NIMH) предпринял масштабные попытки решить эту проблему на институциональном уровне. Исследователи стремились выяснить, можно ли соотнести различные формы депрессии с нарушениями определённых нейромедиаторных систем. Эти программы использовали клинические подтипы, биохимические маркеры и фармакологические ответы. Однако итог оказался разочаровывающим: ни один моноамин не продемонстрировал стабильной и специфической связи с каким-либо клиническим вариантом депрессии. Более того, мета-анализы показали, что уровни продуктов распада серотонина в спинномозговой жидкости у пациентов с депрессией в среднем не отличаются от показателей у здоровых людей.
Клиническая практика лишь усиливала это ощущение неопределённости. Пациенты со сходной симптоматикой часто демонстрировали совершенно разные ответы на препараты одного и того же класса. В ряде испытаний 1960-х годов трициклический антидепрессант имипрамин не показывал убедительного преимущества перед плацебо или даже перед комбинациями стимуляторов и седативных средств. Сам Джозеф Шильдкраут признавал, что амфетамины, которые должны были быть эффективны в рамках норадреналиновой модели, давали "переменчивые результаты".
Даже в клинических состояниях, которые казались биологически более определёнными, ситуация оставалась неоднозначной. Например, в исследованиях мании одни работы показывали превосходство лития над нейролептиками, тогда как другие не находили статистически значимых различий. Это подрывало надежду на то, что простая нейрохимическая модель сможет надёжно предсказывать клинический ответ.
Дополнительный удар по моноаминовой гипотезе наносили фармакологические парадоксы. Попытки связать эффективность препаратов с предполагаемым дефицитом соответствующего медиатора не подтверждались. В частности, препараты с противоположными механизмами действия могли демонстрировать сходную клиническую эффективность. Тианептин, усиливающий обратный захват серотонина, оказался сопоставим по эффективности с селективными ингибиторами его обратного захвата — факт, плохо совместимый с идеей простого серотонинового дефицита.
На методологическом уровне ситуация выглядела ещё более проблематичной. Теоретические модели, описывающие взаимодействие серотонина, норадреналина, дофамина и других систем, становились всё более сложными и многоуровневыми. Однако именно эта сложность делала их практически непроверяемыми. Как позднее отмечал Кеннет Кендлер, поиск простых нейрохимических объяснений депрессии провалился, а попытки описать расстройство через сложные "много-ко-многим" причинно-следственные связи лишали модель фальсифицируемости.
Ситуацию усугубил и диагностический сдвиг начала 1980-х годов. С выходом DSM-III депрессия была закреплена как единая диагностическая категория. Это решение повысило надёжность диагностики, но одновременно сделало ещё менее вероятным обнаружение специфических биологических подтипов внутри диагноза. Если депрессия представляет собой гетерогенный набор состояний, то поиск одного нейрохимического механизма оказывается заведомо обречённым.
К концу 1970-х годов стало очевидно, что моноаминовая гипотеза не выполняет требований, предъявляемых к полноценной этиологической теории. Она не позволяла надёжно классифицировать пациентов, предсказывать ответ на лечение или связывать клинические симптомы с воспроизводимыми биологическими показателями. В этом смысле гипотеза не была опровергнута — она скорее растворилась, не сумев превратиться в рабочую модель депрессии.
Однако на этом её история не закончилась. Напротив, именно в момент, когда моноаминовая гипотеза начала терять статус исследовательской программы, возникли условия для её радикального упрощения. Проблема сместилась с вопроса "почему теория не работает?" на вопрос "как сделать её достаточно простой и полезной?". Ответ на этот вопрос и привёл к выделению одного медиатора — серотонина — и к следующему этапу этой истории.