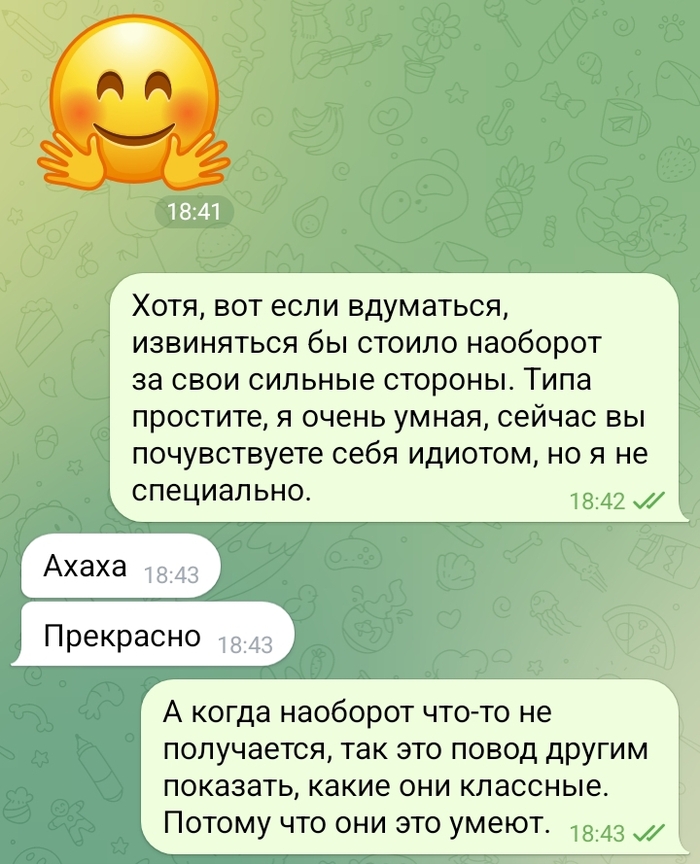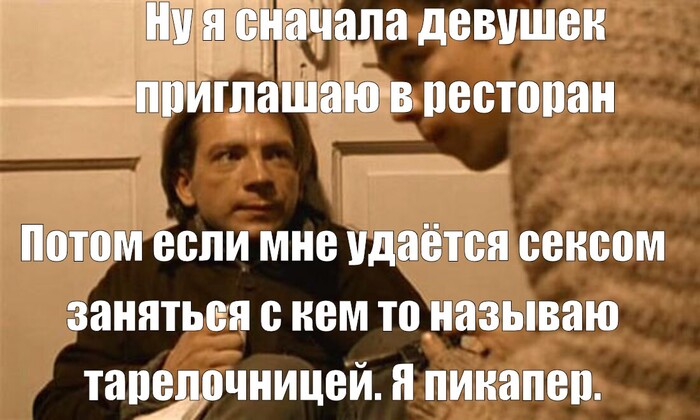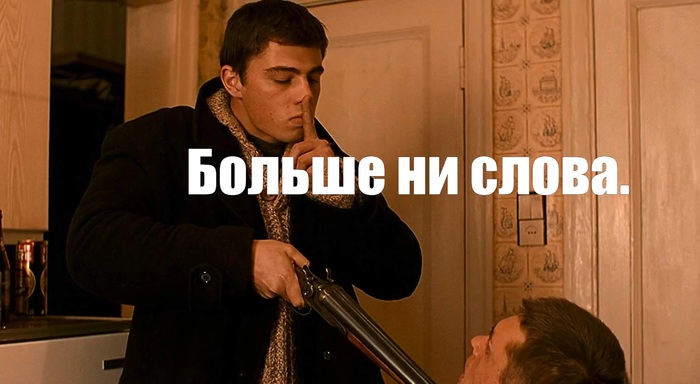Меня не отпускает после просмотра этого фото, решил высказаться дополнительно.
Передо мной стоит лицо мальчика. Не на фотографии,её уже исправили, почистили, привели к идеалу. Передо мной стоит лицо, которого на этой карточке больше нет. Лицо мальчика в самодельном костюме снеговика, который так хотел держать за руку свою новую сестру и быть ближе к той, кто мог бы стать мамой. Его стерли. Вырезали из кадра, как бракованный пиксель, как случайную помеху в идеальной композиции счастливой семьи.
И я не могу дышать от этой мысли.
Мать, с молчаливого согласия отца, заказала фоторедактору убрать со снимка старшего сына своего мужа. «Было неудобно отталкивать его при воспитателях,» пишет она, словно заказывает удаление лишней ветки с пейзажа. Не человека. Не ребенка. Неправого, неудобного, лишнего.
И редактор, подписавшись своим именем, выполнила заказ. Поставила штамп. Сотворила чудо цифровой амнезии: вот вам новая история, в которой у этого мужчины никогда не было сына от первой жены. В которой он стоит босой в носках у елки с новой женой в вызывающем платье и дочкой-феей. Чисто. Аккуратно. Без шероховатостей в виде чужой, небогатой крови.
Я пытаюсь понять логику. Логику отца. Мужчины, который смотрел, как его сын в неуклюжем костюме тянется к женщине, занявшей место его матери. Который видел, как его новая жена холодно отстраняется. Который знал, что будет дальше. И разрешил.
Не общаться с матерью ребенка, после развода, это нормально, вот что прокручивается в голове. Да, бывает. Жизнь, обиды, расстановка сил. Но ребёнок-то чем виноват? Он, не продолжение матери. Он, продолжение тебя. Твоя улыбка, твои гены, твоя первая седина, твоя кровь, в конце концов.
Как за кусок новой пизды, за тепло постели, за иллюзию покоя можно эту кровь продать? Продать молчанием. Продать позволением. Продать, в конечном итоге, согласием на то, чтобы твоего сына стерли. Не просто оттолкнули на утреннике, это он, наверное, пережил бы. Его стерли с документа, с памятной карточки, с факта твоего прошлого. Он был неудобен и его больше нет.
Это не поступок слабости. Это, циничная сделка. Отец обменял своего сына на свое мнимое спокойствие в новом браке. Он стал соавтором этого преступления против памяти, против родства, против простой человеческой порядочности.
А мальчик… Он встал не рядом с отцом. В его детской, страшной мудрости он интуитивно тянулся к тому, кто должен был дать тепло в этой новой конструкции: к женщине и девочке. Он пытался встроиться. Он хотел держать за руку сестру может, надеясь, что она его не отпустит. Его лицо, было напряжено. Он уже всё понимал. Он уже чувствовал, что он тут, на птичьих правах. Гость, которого терпят до конца праздника.
Но он не мог представить, что его сотрут даже с воспоминания об этом празднике.
Это фотография, которую будут показывать гостям: Вот наша ёлка! Вот наша маленькая фея!. И его на ней не будет. Как будто он и не прижимался тогда в надежде, как будто не пытался робко взять руку сестры, как будто его не было вовсе.
Кто здесь больше мразь? Та, что отдала бесчеловечный приказ? Или тот, кто его молчаливо санкционировал? Редактор, что за деньги выполнила социальный заказ на подлог? Или все мы, как общество, которое породило эту допустимость, делить детей на своих и чужих, на желанных и «принесенных из прошлого»?
Нет, главный предатель, тот, кто должен был защищать. Отец. Его молчание, это громкий выстрел в спину собственному ребенку. Его согласие, это печать на приговоре: Ты мне не нужен.
И теперь, глядя на ту, «исправленную» фотографию, я вижу призрак. Прозрачного мальчика в костюме снеговика, который стоит между отцом в носках и женщиной в черном платье. Он не ушел. Его просто решили не замечать.
Но некоторые замечают. И от этого зрелища, стирания живого человека с фотографии и из семейной истории, на глаза наворачиваются слезы бессильной ярости и бесконечной жалости к тому, кого предали самые близкие.
Эта история, не про плохую мачеху. Это, памятник отцовскому трусости. Холсту, на котором вместо лица сына осталось жирное, постыдное пятно родительского предательства. И ни один фотошоп в мире не сможет его отретушировать.
Его стёрли. Буквально. Заказ на фотообработку гласил: «Уберите мальчика-снеговика. Это старший сын моего мужа от первого брака». И редактор выполнила заказ. Семейная история была отредактирована. Неудобный мальчик, с его немодным костюмом и чужой кровью, исчез, как досадная помеха. Отец на той фотографии босой, в носках молча согласился. Он стал соавтором этого цифрового убийства памяти. Он обменял сына на спокойствие в новом браке.
Знавал я одного парня.
А в это время в судах одного российского города много лет шла другая процедура стирания. Не цифровая. Бумажная. Юридическая. Мужчина пытался доказать, что он существует. Что он, отец. Что у него есть право знать, где его дети, слышать их смех, видеть, как они растут. Он шёл с 2014 года, вооруженный не родительской любовью, её не нужно доказывать, а статьями, кодексами, процессуальными нормами.
Он выигрывал дела. Суд раз за разом признавал, что органы, призванные следить за исполнением законов, эти законы нарушали. Бездействовали. Его права, прописанные черным по белому, игнорировались системно. Каждое решение суда в его пользу было похоже на справку о том, что тебя избили, указав время, место и данные преступника. Но самих детей справка не возвращала. Нарушителей не наказывали. Система констатировала собственную болезнь, но лечить её отказывалась.
В его последнем заявлении уже не было мольбы. Был холодный, отточенный до бритвенной остроты вывод, последний аргумент отчаяния: «Неисполнение закона тем, кто обязан за ним следить, это расшатывание основ государства. Это дискредитация самой идеи справедливости». Он апеллировал уже не к закону, а к тем, кто стоит над законом, крича, что фундамент, на котором они стоят, гниёт. Он стал зеркалом, которое показывало системе её собственное уродливое, абсурдное отражение.
А потом он сел в автобус и заплакал. Слёзы лились не только из-за чужого мальчика, стёртого с фотографии. Они лились от узнавания. Он и был этим мальчиком. Его тоже десятилетиями стирали. Стирали из жизни его детей. Стирали тихо, методично, через бездействие входящих номеров, через отписки на бланках, через бесконечные отсрочки. Судебные решения в его пользу были лишь констатацией факта стирания, но не его остановкой.
Эти две истории, на самом деле одна. Это история о том, как предательство становится бытовой практикой. На микроуровне, отец предаёт сына ради мнимого комфорта новой семьи. На макроуровне, система предаёт отца ради сохранения видимости порядка, ради избежания хлопот, ради циркулярного бездушия своего аппарата. В обоих случаях стирается не просто человек. Стирается связь. Отцовство. Память. Доверие.
После этого уже не плачут от жалости. Плачут от пустоты. От осознания, что та инстанция, к которой апеллировал весь твой внутренний кодекс чести, будь то родительский долг или вера в Закон с большой буквы, оказалась фикцией. Она не защищает. Она лишь создаёт видимость процедуры, за которой можно удобно спрятать чудовищное, будничное бездушие.
Лицо стёртого мальчика с той фотографии и лицо этого мужчины, смотрящее в лобовое стекло после десятков лет судов, это одно лицо. Лицо призрака, которого пытаются сделать невидимым. Которого вычеркнуть из альбома, из дела, из жизни. Но призраки, рождённые такой болью, не исчезают. Они остаются в воздухе. Тихим укором. Немой картой предательства, которую невозможно отредактировать.
P.S. И самое жопное, самое мерзкое, это молчаливое согласие системы. Редактор, которая берёт заказ. Воспитатели, которые видят и отводят глаза. Общество, которое смотрит на новую ячейку и не задаёт вопросов. Это, круговая порука беспринципности. Против которой ты, с твоим уставом в крови и расписанием в голове, бессилен. Ты можешь отвечать за автобус. Ты не можешь заставить этого отца отвечать за сына.
Ты живешь в своём мире, в котором такие вещи невозможны. А они возможны. И от этой щели в мироздании, в которую проваливается человеческое, и хочется выть. По-волчьи. От бессильной ярости.