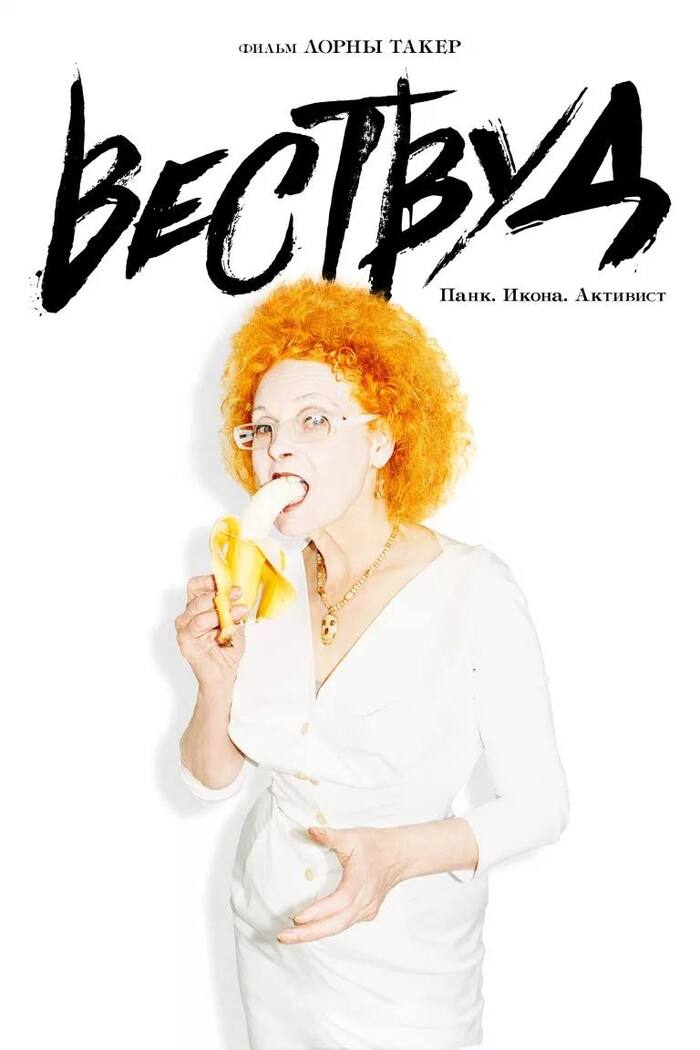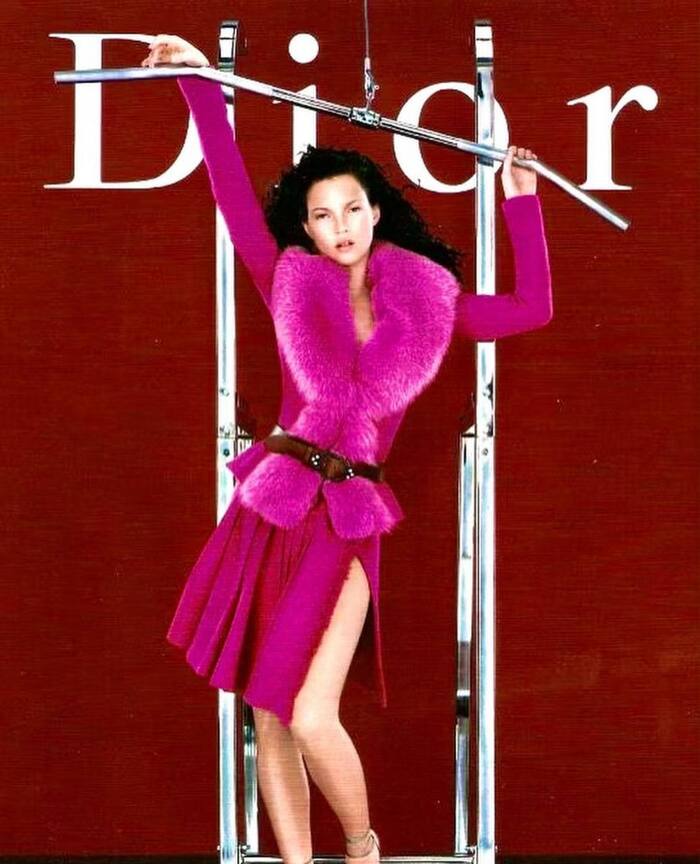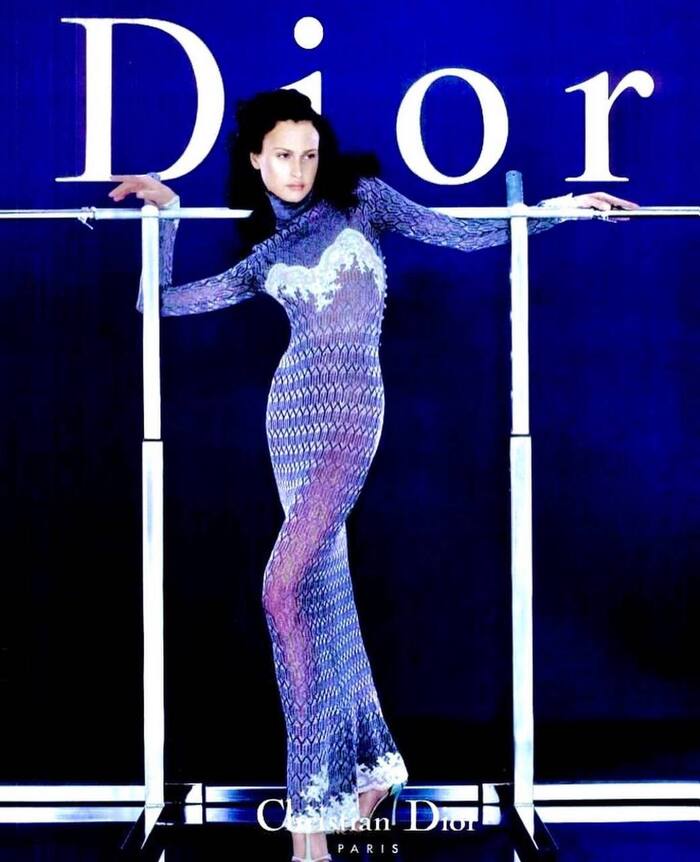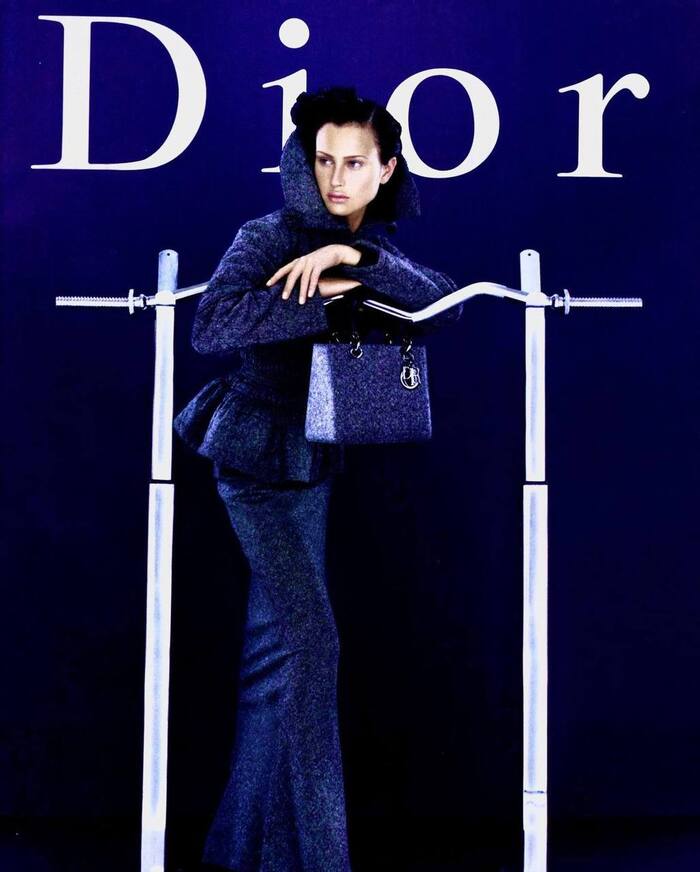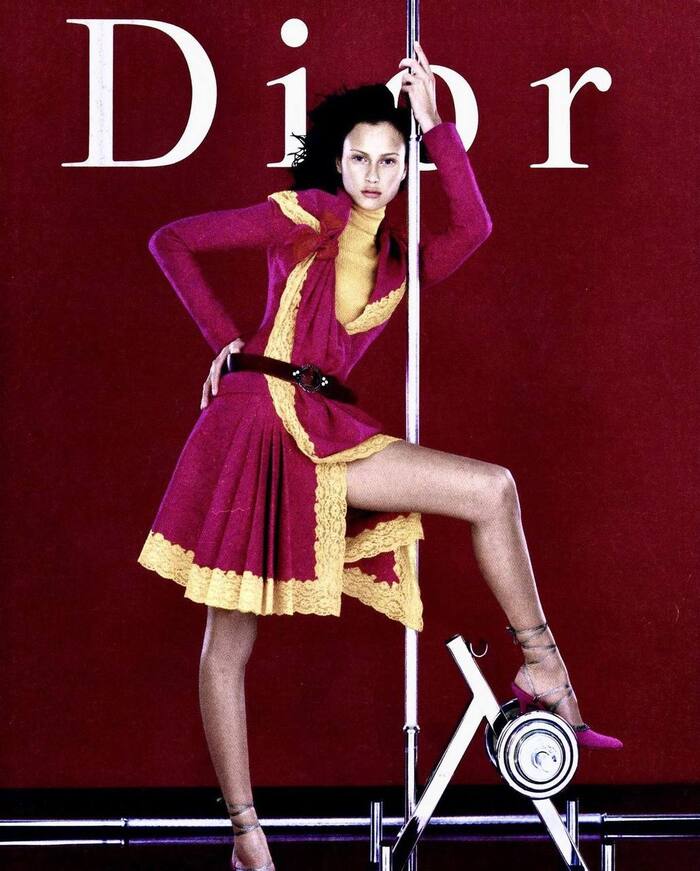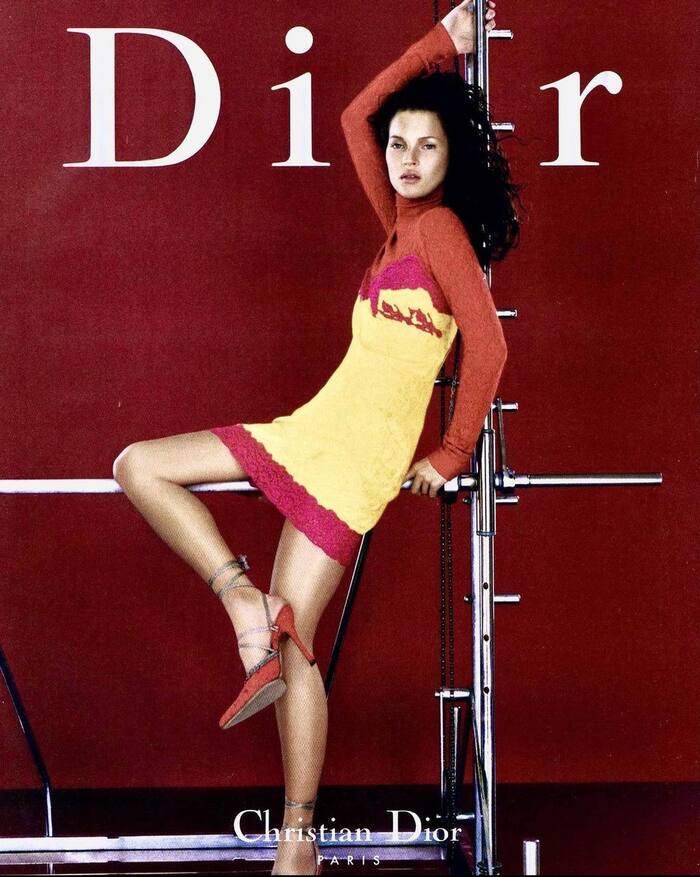Maison Margiela Artisanal Couture Fall 2025: Показ, после которого хочется либо молиться, либо материться
Гленн Мартенс, новый глава Maison Margiela: как будто в психушку зашёл новый санитар — с золотыми руками и бензопилой. Все стены — в следах былой славы, а в углу тихо светится фантом Гальяно, от которого даже мебель подёрнута краской. В этом заведении не лечат, тут культивируют безумие до статуса высокой моды. И вот в эту ауру входит Мартенс. С ложкой. Серебряной. Одинокий жест — размешивать чай, пока модная тусовка пучит глаза от ужаса. На коробке написано: приглашение. На лице Мартенса — всё остальное.
Начать свою эпоху с линии Artisanal в Margiela — всё равно что вкатиться на похороны с саксофоном и сыграть «Toxic» Бритни Спирс. После Гальяно. После той самой коллекции, которую уже вписали в пантеон. И Гленн знал. «Единственное, что нам говорили, когда узнали, что я начну с Artisanal — это: “Вот это яйца”». Не реакция, а эпитафия. Но ему этого и надо. Он пришёл не на фуршет. Он пришёл треснуть по столу.
Вместо тканей — бумага. Вместо кружева — пластик. Вместо предсказуемости — альхимия, собранная из хлама и хоррора. Всё это выглядело не как мода, а как аутопсия по бренду, где каждый шов — вскрытие, а каждый образ — признание в любви и насилии одновременно.
Мартенс не играет в милоту. У него смех — как звук ржавого турникета в вагоне метро. Жесткий, саркастичный. Как приговор и диагноз одновременно. И это не поза. Это его способ общаться с реальностью, которая с каждым годом всё больше напоминает промо-кампанию фаст-фэшн с бюджетом апокалипсиса.
Пластик в его руках становится почти религиозной категорией. Он его не просто драпирует, он его обожествляет. Один из образов — платье-купол, словно покрывало над викторианским телом. Другая модель — вся в трёхмерных пластиковых цветах, будто восставших из помойки IKEA. Сам Мартенс говорит: «Это как будто пластик из XVI века». Вот эта фраза — ключ ко всей логике показа. Контекст абсурда. Дискурс абсурда. Кутюр из мусора. Престиж в целлофане.
Добавим краску. Куда же без неё. На кожу, на холст, на бумагу, на чью-то память. Поверхность становится полем сражения между Рубенсом и обоями бабушки из Брюгге. Деградé-эффекты, слои как в картинах Марка Брэдфорда. Вроде декор, а вроде манифест: всё, что ты считал красивым, давно сгнило — и это прекрасно.
Сверху — маски. Вся коллекция — в масках. Не модные балаклавы с TikTok, а театральные ловушки. Микс Гильермо дель Торо с Тобом Хупером. Пугающе красиво. Потому что лицо больше не важно. Это не про лицо, это про форму. Не про музу, а про каркас. Это был камбэк к первородному Маржелии, где люди — не герои, а носители конструкции. Иронично, что под этими масками всё равно оказались модельные лица из глянца. Лицо стерли, но бюджет остался.
Гленн не делает пол-мер. Он не реставратор. Он не «уважает наследие». Он его поджигает и смотрит, как тлеет. Но делает это с таким же трепетом, с каким японский мастер разбивает вазу, чтобы потом склеить её золотом.
Откуда в нём это всё? Ответ — из юности, из Бельгии, из серого готического Брюгге, где дождь — как фон. Там он и рисовал первые скетчи. Туда он и сбежал от шума Венеции, чтобы пересобрать себя. Там умер его дед. Осталась бабушка — 97 лет, 80 из которых с ним. Эта утрата, этот холодный воздух, эти стены, дышащие фламандским средневековьем — всё это просочилось в ткани, в силуэты, в скорбную грацию образов.
Некоторые платья держались так, что казались магией. Невидимые каркасы. Подпорки из воздуха. Он сам говорит: «Нам не до конца понятно, как это держится. Et voilà!» — и смеётся, как фокусник в дурдоме.
Он хочет, чтобы вещи были неочевидны. Чтобы даже зная технику — ты не понимал, как. Чтобы ум за разум заходил от уровня конструкта. Чтобы всё было не по правилам, а вопреки.
А теперь сделаем паузу. Потому что он не просто эксцентрик. Он коммерс. Стратег. Циник, который любит цели. В Diesel он показал, что умеет двигать масс-маркет в сторону культа. И в Margiela тоже будет продавать. Он не дурак. Он знает: у Рензо Россо аппетиты не только к творчеству. Там ещё и вертолёты надо обслуживать.
Он сам говорит: «Я хочу быть хорошим мальчиком. Мне нужно чувствовать, что я выполнил план». И в этот момент весь фасад безумного гения чуть проседает. Появляется системный менеджер в коже провидца.
Коллекция заканчивается несколькими «продаваемыми» образами. Чёрные платья с неоновым налётом digital-ада. Всё равно странно. Но уже ближе к носибельности. Он сам говорит: «Я должен хоть что-то продать». И смеётся. Смеётся так, будто сам себе не верит.
Гленн — не просто дизайнер. Он дирижёр на грани распада. Он собирает арт из хлама. Но у него есть карта. Стратегия. Он говорит: «Мы не будем больше делать “интригующие вещи” в стиле Мартина. Сегодня это не сработает. Эпоха стала слишком поверхностной».
Это не жалоба. Это вызов. Он готов играть по новым правилам, но на своём поле. Вдохновляется ли он самим Марженом? Нет. Он хочет перезапустить дом, а не чествовать архивы. Кстати, видел ли он самого Мартина? Даже не знает. Может, да. Может, это были ноги на фото с Сейшел. Grognard прислала. В кадре — мидии и мужские ступни.
Смех Гленна Мартенса — это не просто звук. Это язык. Он смеётся, когда говорит о завышенных ожиданиях. Когда его просят «успокоиться с идеями». Когда Рензо Россо предлагает «разрезать коллекцию пополам». И в этом смехе слышно: «А вот хрен вам». Он делает не потому что надо, а потому что не может иначе. И да, у него любимое слово — "опулентность". Что-то между католическим великолепием и постапокалиптической свадьбой на помойке.
Margiela под Мартенсом — это не логичное развитие бренда. Это реверсивное вскрытие архива с помощью клеевого пистолета и фламандской тоски. Он не оживляет прошлое. Он делает с ним фотомонтаж. Подкрашивает. Сжигает. И ставит на витрину.
Любой другой дизайнер бы попытался «найти баланс». А Гленн идёт вразнос. Берёт костюм из секонда, покрывает его слоем бумаги и делает это модой. Превращает найденную в Брюсселе штору в couture-образ. Стыдно должно быть не ему, а тем, кто продолжает штамповать шёлк с перьями, как будто TikTok не существует.
Всё, что делает Мартенс, — это вызов. И одновременно — инструкция по выживанию. Он не просто играет в деконструкцию. Он делает её новым нормальным. Показывает, как выжить в мире, где всё уже было, а всё новое — либо скучно, либо банально.
И при этом — он не забывает про уличную культуру. Его ready-to-wear не будет отлетевшей фантасмагорией. Он понимает: улица — не музей, ей надо дышать. «Хочу вернуть реальность улицы в Дом», — говорит он. Улица — его соратник. Там, где раньше проходили показы Маржела, теперь дети в кроссовках. И это нормально. Пусть они тоже носят «дефортированные» плащи и кожаные халаты, которые держатся на честном слове и паре невидимок.
Он не поэт в башне из слоновой кости. Он системный человек в одеяле сумасшедшего. Да, он был отличником. Да, он любит быть «хорошим мальчиком». Да, он хочет, чтобы все получили бонусы — и дизайнеры, и президент, и сам Мартенс. Но он будет вести себя как анархист, пока Excel’ы не смотрят.
Гленн — это парадокс. Слишком умный, чтобы быть просто кутюрье. Слишком уличный, чтобы быть просто концептуалистом. Слишком ироничный, чтобы верить в собственные заявления. Слишком одержимый, чтобы просто «удовлетворять бренд». В нём всё на контрастах. Как вся его коллекция. Как сама Margiela.
Он мог бы пойти по лёгкому пути. Делать правильные образы, ласковые цитаты, умеренную деконструкцию, чтобы радовать фанатов архива. Но он выбрал тропу босиком по битому стеклу. И не потому, что мазохист. А потому что всё остальное — это смерть вкуса.
Что будет дальше? Он сам не знает. «Это был первый показ. Самый сложный. Ты задаёшь тон». Да, это было мощно. Но это было только вступление. Он установил планку — теперь надо либо перепрыгнуть, либо сжечь. А зная Мартенса — скорее второе.
Он не хочет быть еще одним лицом в зоопарке модных директоров. Не хочет быть мальчиком с хорошими цифрами. Он хочет, чтобы его вещи жили. Пугали. Вдохновляли. Чтобы кто-то захотел взять эти бумажные платья, выкатиться в них в метро и спровоцировать нервный срыв у пятерых пассажиров.
Если есть бог в этой индустрии — он должен сейчас смотреть и хлопать стоя. Потому что Мартенс делает то, что мода давно забыла: он рискует. Не играет по алгоритму. Не продаёт «образ жизни». Не закатывает в шелест мрамора. Он раздражает. Он пугает. Он вдохновляет.
Maison Margiela снова жив. Не как мертвец с накрашенными глазами. А как мутация. Как нечто, что нельзя объяснить, но невозможно забыть.
Гленн не спас моду. Он просто показал, что она ещё может быть неприличной. И это, возможно, единственное, что сейчас стоит аплодисментов.
Конечно, весь этот психодел бы не сработал без команды. Без Симона, который за евро купил джинсы и закрасил их вручную. Без 200 сотрудников, которые «тоже хотят купить квартиру». Без Дженсена, который включил Smashing Pumpkins вместо обычного транса. Показ был в культурном центре на севере Парижа — именно там Мартен провёл свой последний показ. Судьба, совпадение или закольцованный ад? Кто знает.
В финале — море шаров. Самого Мартенса нигде нет. Он растворяется в моменте, как будто наблюдает из-под сцены, курит, смотрит, как толпа не понимает, что только что произошло. И, конечно, смеётся.