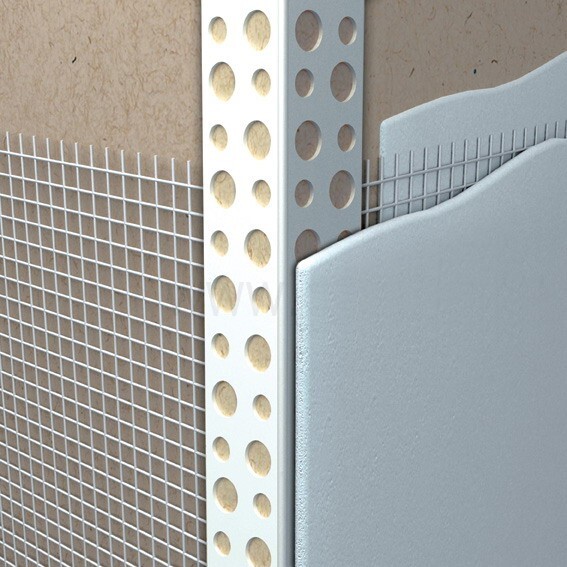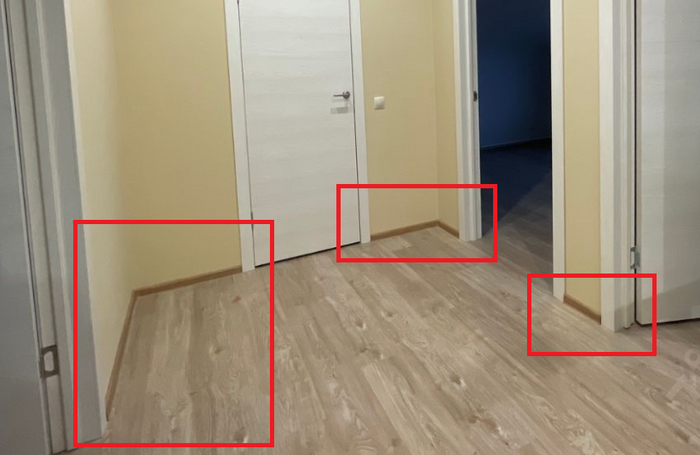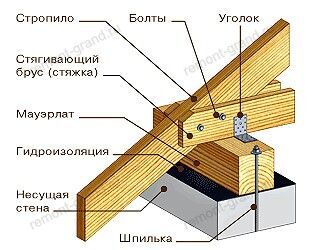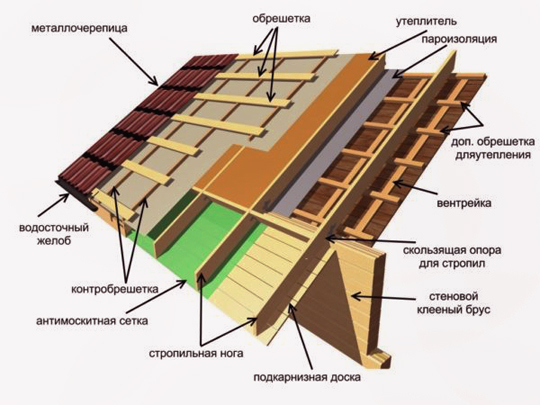Смерть
— Это что? — Инспектор раздражённо указал вниз.
— Горшок... — тихо ответила Смерть.
— Горшок?! В каком, скажи, мы сейчас веке по-твоему? Кто-то ещё умирает от падающих цветочных горшков?
— Ну... он.
Они сидели на самом краю крыши. Инспектор — в чёрном вельветовом костюме, застёгнутом на все пуговицы, суровый и непреклонный, как обелиск. И Смерть — молчаливая, печальная, в неизменном тёмном балахоне с капюшоном, наглухо скрывавшим лицо.
А под ними, на тротуаре, лежал мужчина с аккуратно разбитой головой. Рядом с ним покоился его убийца — керамический цветочный горшок, выпавший с восьмого этажа и столь же безжалостно, сколь и нелепо, оборвавший человеческую жизнь. Кровь медленно растекалась, смешиваясь с рассыпавшейся землёй. Сам цветок, вывалившийся из разбитого горшка, поникал на холодном асфальте. Продавщица из ближайшего магазинчика громко запричитала; начали собираться первые зеваки.
Инспектор повернулся к Смерти. Его пальцы нервно постукивали по колену.
— Послушай. Вас же в Академии учили управлению событиями. Почему ты не могла остановить ему сердце? Или направить на него тот автобус? Да даже эта сосулька, — он ткнул пальцем в лёд, свисавший с карниза, — смотрелась бы куда уместнее, чем твой горшок!
— Просто...
— Смотри, как скользко! — не слушая, продолжал Инспектор. — Он мог бы просто поскользнуться и удариться головой. Это было бы в тысячу раз правдоподобнее!
— Я хотела...
— Миллион! Миллион разных причин смерти можно было выбрать! Почему именно горшок??
Из-под тёмного капюшона донеслось едва слышное, виноватое:
— Я... я люблю цветы...
Инспектор мысленно застонал.
В его обязанности входила проверка выпускных работ учащихся Академии. За сотни лет службы он, разумеется, повидал всякое. Но в основном это были грубые просчёты и неумение пользоваться причинно-следственной средой мира живых. Таких выпускников отправляли на переобучение. Однако, чтобы Смерть — официальный сотрудник — руководствовалась в работе личными предпочтениями... Такое он видел редко. И теперь эта чья-то прихоть с цветком становилась его проблемой.
— Зачем мы вообще их убиваем? — Смерть не отрывала взгляда от тротуара внизу, где уже сгущалась толпа зевак. Некоторые задирали головы к распахнутому окну на восьмом этаже. Ни её, ни Инспектора они, разумеется, не видели. Вдалеке нарастал вой сирены.
Инспектор нахмурился.
— Так надо. Такова наша задача и наше предназначение. Он с неожиданным интересом посмотрел на свою молчаливую спутницу. Смерти редко задавались такими вопросами. — Отведённое время подходит к концу. Наша работа — обеспечить своевременное и... эстетически приемлемое завершение.
— А что будет, если мы не заберём жизнь? — её голос был тихим, но упрямым.
Инспектор вздохнул. Ветер шевелил полы его безупречного костюма.
— Никто не знает. Смерти всегда забирают своё.
Смерть задумчиво замолчала. Инспектор сделал едва уловимое движение рукой — и пространство качнулось. Они стояли перед величественными, вечными воротами Академии.
Решительным шагом Инспектор направился в зал Назначений, не оборачиваясь на едва семенящую за ним в своих тяжёлых складках Смерть. Он уже знал, что напишет в выпускном аттестате — «эмоциональная нестабильность, непрофессионализм». Не в первый раз отправлял на повторное обучение. И всё же что-то грызло его изнутри. Нечто из сказанного Смертью засело в сознании, как заноза, и настойчиво требовало внимания.
Вернувшись в свой кабинет, Инспектор механически подготовил бланки для следующей группы, заполнил журнал Посещений и принялся за еженедельный отчёт для деканата. Перо скрипело по вечному пергаменту, выводя бесконечные колонки цифр и причинно-следственных сводок.
И вдруг его осенило.
Он замер. Перо повисло в воздухе, оставив кляксу.
«Люблю».
Вот то слово, что не давало покоя. Он не слышал его, кажется, тысячу лет. Но помнил, что оно значит. Оно означало привязанность. Предпочтение. Чувство.
Как Смерть может что-то любить? Это же функция, бестелесная оболочка, инструмент. У неё нет души. Нет прав на чувства. Это было... несанкционировано. Противоречило всем параграфам Устава.
Щелчок пальцев — резкий, нарушающий тишину архивов. Пространство смялось, и он оказался в кабинете Распорядителя.
Распорядитель, седовласый и вечный, как сама пыль на его стеллажах, поднял раздражённый взгляд. Этот взгляд красноречиво говорил, что мгновенные перемещения в стенах Академии строго запрещены пунктом 47-б Устава о внутреннем распорядке.
Инспектор, не дав ему вымолвить слова, предостерегающе поднял руку. Его лицо, обычно бесстрастное, было напряжено.
— Дело серьёзное, — отрезал он.
Распорядитель медленно отложил перо.
— Что случилось?
— Со Смертью что-то не так.
В стенах Академии обучались тысячи одинаковых, безликих Смертей. Но Инспектор мысленно передал Распорядителю образ — утреннюю встречу, тротуар, разбитый горшок и печальную фигуру в балахоне. Тот мгновенно понял, о ком речь.
— Что с ней? — в голосе Распорядителя прозвучала редкая искра беспокойства.
— Дай мне историю её появления.
Распорядитель коснулся виска. В воздухе между ними сформировался и замерцал призрачный свиток — мыслеобраз личного дела. Инспектор погрузился в него.
Личное дело № 734-Ц.
Прижизненное имя: Лия.
Возраст на момент смерти: 25 земных лет.
Причина смерти: внутреннее кровотечение.
Статус души: изолированная. Родственников нет. Память о ней в мире живых стёрта. Любви, привязанностей, невыполненных обещаний — нулевой баланс.
«Необходимые условия для отбора в Академию соблюдены», — холодно отметил про себя Инспектор. Чистый лист. Идеальный материал.
Далее шли записи об учёбе: 15 земных лет (с точки зрения вечности — мгновение) изучения управления материей и временем. Курсы по нарушению причинно-следственных связей и созданию новых. Упражнения на видение миллиардов вариантов развития одного момента и безошибочный выбор единственной нити, ведущей к тихому, или не очень, финалу.
Смерти — это холодные, точные машины. Проводники. Функция, лишённая самости. Почему эта функция вдруг дала сбой? Почему в её бездушном «я» затесалось слово «люблю»?
Инспектор оторвался от мыслеобраза. Его взгляд, обычно пустой, как взгляд счётной машины, был полон немого вопроса, обращённого к Распорядителю и ко всей незыблемой системе мироздания.
— Почему эта Смерть не такая?
Распорядитель вопросительно посмотрел на Инспектора. Анкета была идеальной — эта Смерть должна была стать образцовым орудием: холодным, безличным, безупречным в своей функции.
— Почему же сбой? — его голос звучал не как вопрос, а как констатация системной ошибки.
Инспектор вновь вглядывался в плывущие строки мыслеобраза. Его взгляд, отточенный веками проверок, зацепился за мельчайшую нестыковку. Место смерти: «Родильный дом №17».
Почему «родильный дом»? В графе стоит «больница». Всегда стоит «больница».
Лёд тронулся. В его сознании, привыкшем к безупречным алгоритмам, щёлкнул не логический, а почти человеческий вывод.
— Передай мне истории всех, кто родился в этот день в Родильном доме №17. Быстро!
— Но это нарушает протокол конфиденциальности душ, не прошедших отбор... — начал Распорядитель.
— БЫСТРО! — голос Инспектора прозвучал с такой несвойственной ему силой, что стены кабинета, казалось, дрогнули.
Данные послушно хлынули к нему. Родившихся было немного. Его сознание, сканируя потоки, мгновенно отсеяло несущественное и замерло на одной записи.
Дата: Совпадает.
Место: Родильный дом №17, палата 4.
Мать: Лия (прижизненное имя субъекта №734-Ц). Причина смерти: внутреннее кровотечение в ходе тяжёлых родов.
Новорождённый: Мужского пола. Состояние при рождении: клиническая смерть, глубокая кома (гипогликемия). Реанимирован.
Текущий статус: 15 земных лет. Жив. Здоров. Проживает и обучается в школе при детском доме №5.
Тишина в кабинете стала густой и звонкой. Инспектор отстранился от потока данных. Он больше не видел цифр, сводок и отчётов.
Он видел историю. Историю, которую система по ошибке или по жестокой иронии судьбы сочла несущественной. Историю, где смерть матери и клиническая смерть сына случились в один миг, в одной палате. Историю, где чистая, изолированная душа... никогда не была чистой и изолированной.
У неё осталось дитя. И где-то в самых глубинах, там, куда не дотягиваются учебники Академии и анкеты, — осталась любовь.
— Она не может быть Смертью. Не должна!
Инспектор вскинул голову. Его глаза, обычно пустые, как старые монеты, полыхали холодным огнём. Он смотрел на Распорядителя не как подчинённый на начальника, а как пророк — на сомневающегося адепта.
— Её нужно перевести наверх. Немедленно.
Распорядитель отпрянул, будто от внезапного порыва ледяного ветра. Его пальцы судорожно сжали край стола, побелевшие костяшки выдавали внутреннюю панику.
— Но… Это же невозможно… Такого никогда не было! — его голос звучал тонко, почти пискливо, потеряв всю свою вековую невозмутимость. — Процедура не предусмотрена! Механизма обратного перехода не существует!
Инспектор шагнул вперёд. Величие его фигуры, обычно скрытое за педантичностью, обрушилось на кабинет всей своей подавляющей силой.
— Значит, он будет создан! — его слова рубили тишину, как удары топора. — Мы ошиблись. Мы просчитались. Она не должна быть здесь. На земле есть душа, которая её помнит и любит. Мы нарушаем все правила, которые сами же и создали!
Он произнёс последнюю фразу не как обвинение, а как приговор. Приговор всей безупречной, бездушной логике Академии. В его голосе звучала не просто ярость чиновника, обнаружившего брак в отчёте. В нём звучала праведная ярость существа, впервые за тысячелетия нащупавшего в законах мироздания не порядок, а чудовищную несправедливость.
Распорядитель замер. В его глазах мелькнуло непонимание, затем страх — и, наконец, тупое, парализующее осознание: система, вечная и незыблемая, дала трещину. И стоит она не из-за горшка, а из-за слова из двух слогов, которого нет ни в одном уставе.
Лю-бовь.
Вдвоём они отправились к Вратам Бессмертных Душ — месту, куда не ступала нога служащего Академии со времён её основания. Тишина здесь была иной, не архивной, а ожидающей.
Инспектор призвал Смерть. Она предстала перед ними холодной и беспристрастной, как того требовал Устав, но в глубине её незримого взгляда читалось лёгкое удивление.
— Это из-за цветка? — едва слышно прошептала она, и в этом шёпоте была не вина, а лишь тихая готовность принять любое наказание.
— Из-за него тоже, — голос Инспектора звучал глухо, почти отстранённо, будто он говорил сквозь толщу веков. Он сделал паузу, и когда заговорил снова, в его словах прозвучала тяжесть, которой не знали даже Врата. — Простите нас. Мы ошиблись.
Порывшись в глубинах памяти, хранившей знания, старшие самой Академии, он отыскал Молитву Отворения. Никто не слышал её со дня запечатывания Врат.
Его голос, обычно сухой и отчётливый, зазвучал иначе — низко, нараспев, складывая древние слова в арку, под которой должно было родиться чудо.
И на последнем слоге, когда эхо его слов ещё вибрировало в камне, Врата дрогнули.
Медленно, со скрипом, повествовавшим о невероятной тяжести, створки начали расходиться. И в сумрачный зал Академии, где царил лишь искусственный свет вечности, хлынул поток.
Это был не просто свет. Это было сияние иного мира — тёплое, живое, пахнущее забытой памятью, утренней росой и тишиной, в которой нет места приказам. Оно залило каменные плиты, коснулось складок балахона Смерти и на мгновение осветило лицо Инспектора, сделав его почти… человечным.
— Ступай.
Инспектор положил руку на её склонённое плечо и мягко, почти по-отечески, направил к сияющим Вратам.
Смерть дошла до самого порога, коротко оглянулась на Инспектора — и сделала шаг вперёд.
Небесный свет обнял её. Тёмный балахон, символ долгой службы, начал тлеть и рассыпаться пеплом, унося с собой холод и беспристрастность. Под ним открылся истинный облик — юная женщина лет двадцати пяти в лёгком белом одеянии, похожем на утренний туман.
Перед ней, прямо в сиянии, материализовалась лестница. Она была воздушной, словно сотканной из света и паутины, и вела вверх, в бесконечную высь небес.
Лицо девушки исказила гримаса одновременно восторга и боли — память хлынула в неё, как вспышка. Вся её короткая жизнь, любовь, страх и последняя жертва в родзале. Она вопросительно, сквозь слёзы, посмотрела на Инспектора. Он молча кивнул.
И тогда её озарила чистая, безудержная радость. Счастье переполнило её так, что она, казалось, вот-вот засветится изнутри. Она сделала шаг по лестнице… и замерла.
Обернулась. Её взгляд, полный немой, но непреложной мольбы, упал на Инспектора. Тот застыл, внезапно поняв. Она сложила руки, как в молитве, и встала неподвижно. Вся её поза говорила: она готова простоять здесь вечность, но не уйдёт без этого.
— Что? Что ей нужно? — Распорядитель метался взглядом между ними, потерянный.
— Она хочет увидеть его, — тяжело вздохнул Инспектор. Голос его был полон неизбывной грусти и… странного смирения.
— Но… мы же не можем! Это против всех…
— Любовь матери сильнее наших правил, — тихо, но твёрдо перебил его Инспектор. — А ещё… мы ей должны.
Лицо девушки — нет, уже Лии — озарилось надеждой. Когда Инспектор, преодолев последний внутренний барьер, передал ей мыслеобраз — не сухую справку, а живую картину: пятнадцатилетний мальчик, смеющийся на школьном дворе, — она возликовала.
Она засияла так ярко, что на мгновение затмила собой поток божественного света. Закрыв глаза, она медленно, торжественно кивнула Инспектору, словно давая последнее благословение. Он, преклонив голову, кивнул в ответ.
Затем она раскинула руки, будто обнимая весь мир, который оставляла, и весь мир, куда шла, — и полетела. Вверх, растворившись в ослепительной реке света, унося с собой прощение и память о цветке, который вернул ей сына.