
Осколки Островной Империи
2 поста

2 поста

56 постов

2 поста

12 постов

16 постов

21 пост

12 постов
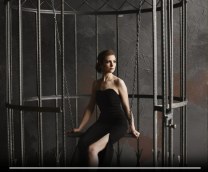
10 постов
Вревск, конечно, город маленький, но все же не деревня. От огородничества и животноводства его жители в большинстве своем отошли. Тем не менее к природе люди здесь были, конечно, ближе, чем в центральной, индустриальной части страны: ребятня (да и взрослые) купались летом в речке, ходили по грибы и по ягоды в лес, подступавший к городу с трех сторон…
В лесу спела земляника, черника и малина, из пушистых метелок веерины девчонки плели украшения, кукушки считали до ста и больше, тащили по мху свою добычу муравьи, и било сквозь листья в глаза летнее, победительное солнце.
В тот день, ставший особенным, осевший где-то внутри, глубоко-глубоко, там, где остаются яркие сны и сильные воспоминания, они отправились в лес компанией из десяти-двенадцати человек, шумной ватагой, собранной со всей улицы. Майе было восемь, она еще жила с родителями, а Виктору четырнадцать, и их ничего не связывало, кроме его привычки вступаться за обиженных и ее робкого обожания, которого сама она страшно стеснялась и которое представляло ее главную, бережно хранимую тайну.
Шли за земляникой. Кто-то так, с пустыми руками, а кто и с банкой или другой посудиной, выданной родителями. Майя несла маленькое берестяное лукошко, сплетенное теткой, старшей материной сестрой, сгоревшей от неведомой хвори два года назад. Тетка, как и мать, выросла в глуши, на заимке, умела работать руками и знала, что в лесу сподручнее.
Ребята болтали, мальчишки сбивали шишки с деревьев, девчонки внимательно глядели под ноги, не пропуская ни ягодки. Лето выдалось сухое, и земляники было мало, но уж сколько есть… Собирай, не зевай, не ленись – вот и будешь с прибытком.
И Майка старательно наполняла лукошко. Рядом с ней пыхтела толстая белобрысая Гуда, девчонка-однолетка. Гуда была младшей дочкой в большой, крепкой семье, ни в чем не знавшей отказу и страшно забалованной. К работе она не привыкла, дома все делали мать и старшие сестры, а маленькую, родившуюся поздно, когда никто уже и не ждал прибавления, жалели…
Через час засобирались домой. Лукошко оказалось наполнено наполовину – не щедр выдался год. Майе было жалко уходить, она, терпеливая и усидчивая, пособирала бы и еще, но ребятам надоело сидеть в ягодах.
И тут случилось несчастье. То ли от природной неуклюжести, то ли из зависти (Майка собрала куда больше) Гуда села прямо на ее ягоды… Лукошко смялось, а земляника превратилась в липкую розовую кашу.
– Ой, моя юбка, божечки, моя юбка, – противно запричитала Гуда. – Это же мама подарила на Пасху, как же она будет ругаться… – и поймав потрясенный майин взгляд, добавила: – Прости… я не хотела.
На юбку Гуды и впрямь смешно было смотреть. Майя тем не менее чуть не заплакала.
Ничего не ответив, она прижала испорченное лукошко к груди и зашагала в сторону дома.
– Эй, что случилось? – спросил Виктор, заметив ее расстроенное лицо.
Майя тихо объяснила.
– Забирай мои, – секунду поколебавшись, сказал он. Протянул наполненную почти доверху банку.
Майя вспыхнула.
– Забирай, забирай. А на Гуду не злись, она же такая… У нее же ноги заплетаются. Еще насобираем, не парься.
Девочка бережно взяла банку, словно ей передавали на хранение какое-то сокровище. Магический артефакт. Тиару древней королевы.
Виктор, конечно же, и не подозревал, что эти ягоды – к добру ли, к худу – окончательно решают его судьбу.
Ты стоишь своих откровений,
Я – я верю, что тоже стою.
Я – гений, ты тоже гений,
И если ты ищешь, значит, нас двое.
Земфира
Осень была яркой. Тягучей и терпкой, грубо-чувственной, без спросу вторгающейся в личное пространство, агрессивно навязывающей свои увядшие прелести, сующей в нос свои остро пахнущие подмышки: на же, вот тебе, вот тебе, ты думал, что можешь уйти от меня, замкнуться, абстрагироваться – нет.
Нюхай.
Дыши этой прелой листвой, этим зябким, тяжело оседающем на коже туманом, вглядывайся в вечерние сумерки, едва разбавленные светом уличных фонарей, ковыляй, спотыкайся по усыпанным мокрой красно-оранжевой листвой дорожкам, бреди по своей нелепой, бессмысленной жизни, пытайся найти себе какое-то применение в этой безумном мареве догорающего города. Скоро ночь, и измотанные граждане начнут отходить ко сну, мучить друг друга семейными перепалками в своих тесных панельных клетушках, терзать усталые тела в нечистых постелях, ждать, когда заснут дети, чтобы заняться сексом, дрочить на порно из интернета, без конца листая страницы в поисках подходящего ролика, такого, который наконец вставит, вставит, подтирать все, что производит организм в процессе полового возбуждения, снова и снова находить оправдание своему одиночеству... Не добровольно избранному нет, такому одиночеству, которое рождает город и современный мир вообще: вечные метания «дом-работа, работа-дом», а годы идут, а человек стареет, и кажется, что уже ничего, ничего, ничего...
Это ароматы осени, это ее пряная, горькая, депрессивная правда, жуй же ее, дыши, подбирай губами то, что налило тебе небо, все, что каплет, каплет, каплет сверху. Ищи какой-то смысл в том, что с тобой происходит, пытайся идеализировать, пытайся что-то изменить – и замерев однажды под дождем, ощути мгновенное, острое, непередаваемое счастье: от того, как прекрасно быть, просто быть, просто дышать, просто чувствовать – и вдруг ощутить томительную, тягучую благодарность к той женщине, что однажды подарила тебе право на это все.
Но все эти сложные ощущения и мысли были еще недоступны двоим, собравшимся для того, чтобы подготовиться к контрольной по физике. Хотя оба, от природы умные и тонко воспринимающие окружающую действительность, наверно, смутно ощущали депрессивную притягательность осеннего безумия, тревожно вздрагивали под порывами равнодушного ветра, ежились под неласковыми лучами холодного северо-западного солнца, но все же восемнадцатое октября для них было одним из рядовых учебных дней, одним из тех, что приближают к концу первой четверти. Скоро каникулы, и завтра контрольная, и Аделаида Степановна очень строга, и нужно просто прорешать это все, чтобы завтра идти со спокойной душой в школу. Ей было четырнадцать, ему шестнадцать, они знали друг друга с детства, потому что жили в двухэтажном доме, выкрашенном шебуршисто-белой краской, на окраине маленького городка: нужно ли объяснять, что такое маленький городок? Место, где все знают друг друга, живя не одной семьей, но одной деревней, почти общиной, когда люди так тесно спаяны друг с другом, что даже не испытывая друг к другу приязни, все же знают друг о друге все – и подстраиваются один под другого, поневоле вынужденные прилаживаться к характеру и привычкам соседей.
Владу хорошо давались физика и математика, Анечке, соседке, значительно хуже. Их бабушки дружили, и дети часто играли вместе, а потом, немного повзрослев, помогали друг другу со всякой школьной белибердой, потому что Анечка, несмотря на юный возраст, отлично писала сочинения – сказывалась яркая природная литературно-лингвистическая одаренность и привычка читать все, где есть буквы. Оба были по-своему талантливы... и красивы, той робкой, неоформившейся, не знающей о себе и не уверенной в себе красотой, которая бывает только на заре жизни. Когда человек еще очень доверчив, очень открыт и верит в хорошее: потому что заряд жизненной энергии, что дается при рождении, еще не потрачен, он как сверкающее ядро внутри, и жар его только разгорается.
У детей было много общего, обоих воспитывали любящие бабушки и дедушки, в то время как родители устремились в поисках лучшей жизни в направлении больших городов. Там, где они в силу обстоятельств оказались, детям было хорошо, но все же полностью старшее поколение родительскую любовь заменить не могло. И оглядываясь на одноклассников и соседей по двору, у которых были порой пьющие и безалаберные, но все же молодые родители, с интересами, вкусами и привычками молодых, дети завидовали. Бабушки, при всей их бесконечной прелести, все же жили в прошлом веке, им нравилась Людмила Гурченко и Лев Лещенко, они стряпали под бормотание пузатых телевизоров, пузырящихся закупленными за рубежом мыльными операми, и полгода проводили в огороде. И ничего-то их кроме этих колосящихся, зеленеющих посадок не интересовало: только бы взошло, только бы заморозки не побили, только бы колорад не сожрал.
А хотелось другого. Хотелось, как другие, жарить с родителями шашлыки во дворе, коптить за гаражами с батей рыбу, ходить с мамой на речку. Анечке – чтобы мама, не бабушка, плела косы, и пусть бы даже нервничала и психовала, дергая волосы, но только пела веселые современные песни, скакала козой по квартире, наряжала ее, как куклу, сама собирала на школьные дискотеки – и никому, никому, никому не отдавала. Потому что это ее единственная, ненаглядная, расчудесная дочь.
И оба, и мальчик, и девочка, были по-своему одиноки. Высокий интеллект и природная жизнестойкость и амбициозность, доставшиеся от активных, пробивных родителей, рождали пропасть между ними и окружением – ребятами, которые в большинстве своем не разделяли их интересов, а часто втайне завидовали: слишком уж легко и просто, без труда давалось все этим двоим. Социально оба были менее адаптированы, чем их посредственные, скучные сверстники. И еще поэтому их тянуло друг к другу, потому что не только дураки, но и умные друг к другу тянутся.
Нужно было подготовиться к той контрольной... Написать ее хорошо, как следует, чтобы было не стыдно. И она попросила его помочь, как привыкла просить с детства, не чувствуя ни смущения, ни какой-то необходимости отблагодарить – так, как просят только близких. Тех, «с кем не надо напрягать язык, а просто быть рядом и чувствовать, что жив».
Они сидели в ее комнате, среди тетрадок, кукол, книжек – старых, доставшихся от мамы и бабушки, и совсем новых, купленных на сэкономленные на школьных булочках деньги, и решали задачи из сборника по физике. Выданная в библиотеке синенькая книжка, растрепанная, на глазах разваливающаяся, странно гармонировала с синими анечкиными джинсами. Острые коленки, немного широковатые для девочки ее возраста бедра, маленькая, едва проклевывающаяся грудь – и очки с толстыми линзами, вечная боль и вечная скука. Нежность полудетского лица, тонкого, с богатой, выразительной мимикой – лица, которое когда-то, потом, станет лицом красивой, сильной, уверенной в себе женщины. Но пока все это впереди, а есть только обещания юности – обещания, которые могут не сбыться...
И он – красивый, действительно красивый русоволосый, зеленоглазый мальчишка, высокий, широкоплечий. Для нее почти как старший брат и уж точно лучший друг.
Решали задачи.
И вдруг увидели друг друга.
Она же сама к нему потянулась.
Положила руку на его джинсы. В безотчетном стремительном порыве прижалась губами к щеке – не рассуждая, не думая о том, что будет дальше. Поцеловала – не так, как целовала бабушку или кошку.
Как мужчину... Первого. Главного.
Уговаривать долго не пришлось.
Она же тоже была ему нужна. Давно. Всегда.
Было очень больно. Просто больно, как бывает, когда порежешь палец, только сильнее. А потом за болью пришло что-то другое, не удовольствие, но во всяком случае от этого не хотелось плакать. Странно-тягучее, волнующее чувство. Стремление не отталкивать. Стремление держать при себе. Сохранять – для себя...
Беречь от других.
Ревниво охранять свое счастье.
Он целовал ее весь тот вечер – почти не отпуская.
А в окно стучалась и звала осень, страшно-горькая, таинственно-призрачная, обещающая сладость и боль, и долгую жизнь впереди. В которой будет – всякое. Но которая только начинается.
А красно-коричневое пятно они потом вдвоем застирали под краном. И холодная вода унесла не только кровь, но и обиды, и недомолвки, которые, конечно, конечно, тоже случались. Даже в их маленькой, еще такой короткой жизни. Которая уже тогда была – общей.
Те, кто расплатился за чужую подлость,
Уходил под пули прямо, не сутулясь,
Превращаясь в слезы,
Превращаясь в гордость,
В синие таблички деревенских улиц...
Игорь Растеряев
Денис вырос в деревне километрах в пяти от города. Отец его сгинул где-то так давно, что люди и не помнили, мать, Тамарка, работала на железной дороге и держала корову. Баба она была справная, здоровая, но не очень-то чистая, так что некоторые из стрелочниц и осмотрщиц, трудившиеся на станции, даже отказывались брать у нее молоко, когда та предлагала. «Не надо твоего молока, Тамара», - за глаза говорили они, в лицо сказать такое, конечно, никто бы не осмелился.
Впрочем, денег хватало. Жили они неплохо. На железной дороге платили хорошо да и опять-таки, хозяйство. Корова, свинья, куры, огород... Голодными не были.
Денис рос единственным сыном. Рожать больше Тамара не стала, уж больно время было неспокойное. Ходил он в обычную городскую школу, пешком, редко когда подвезет кто. Примерным учеником не был, так что даже учительница домой ходила, проверять, в каких условиях живет мальчишка. Видимо, осмотр оказался удовлетворительным, потому что визит тот оказался единственным. После школы поступил в сельскохозяйственный техникум.
Но не закончил... Его забрали в армию. Шла Чеченская война. Вторая. Отслужил год. И прислали домой в цинковом гробу, так что мать и увидеть сына не смогла...
Помочь со стряпней на похороны Тамара созвала баб с работы. Те привели и своих дочек, сестер... Хоронили всем миром. Да и правда: вся деревня пришла попрощаться с Денисом, военные, офицеры... Надо ведь было что-то поставить на стол. Пожилой майор принялся целовать руки одной из стряпух, осмотрщице Валентине: «Спасибо за сына». «Я не мать, не мать, - стесняясь, уклонялась она. - Мать там».
Мать суетилась, командовала на кухне, пыталась руководить. Не плакала. Ее вроде как обкололи чем-то таким, успокоительным, чтоб без нервов. И казалась она железной, да что там, железобетонной, словно непробиваемой. Ни слезинки, ни причитания. Только работа, только расчет. Словно и не сына хоронила.
Потом, после похорон, когда за сына должны были выплатить большие деньги, она будет хвастаться: «Я теперь миллионерша». А робкая, маленькая Валентина покачает головой: «Это кровавые деньги, Тамара. Их нельзя брать. Да и зачем они тебе теперь...»
Тамара, сама словно не знающая ответа на этот вопрос, через некоторое время найдется: «А я дом построю». Зачем, для кого... Просто, наверное, есть у деревенского человека такая мечта - дом. Вроде как есть, значит, больше ничего и не надо. А если уже стоит? Да хоть десять. Своя ноша не тянет.
Впрочем, может быть, это был просто шок, невозможность осознать, в полной мере понять случившееся. Да и сына в гробу она ведь не видела. Видела гроб - а сына нет. Но Тамару осуждали - мать так вести себя не должна.
Да и за жадность обиделись. «Мы ей столько наготовили, а она хоть бы салатов с собой дала, - говорила Валентина. - Нет, только Галке банку «оливье» наложила, у той трое. А мы что?» Но вслух опять же попросить не смогли, постеснялись.
«Кровавые деньги» не принесли Тамаре счастья. Дом она построила, но долго в нем не жила. Всего-то через три года упокоилась на кладбище рядом с Денисом, не выдержало ее не умевшее горевать сердце.
Но хоть мать и не лила слез на похоронах, ушел Денис не совсем неоплаканный. По-деревенски причитали старухи: «И на кого ж ты нас оставиииил, закатился наш месяц яяясный....»
И рыдала за домом Ольга, его единственная, почти сорокалетняя любовница. Не успел сойтись Денис со своей сверстницей, молодой девушкой, брезговали они им, и единственной его женщиной стала еще крепкая, красивая разведенная баба. Нет, не рыдала она, выла, понимая, что больше никогда, никогда, никогда его не обнимет. Убивалась, не в силах принять его смерть, такого молодого, горячего, которому бы жить да жить... И может быть, она была единственной, кто так крепко его любил.
Дом стоял на окраине города. За аккуратной, чистенькой пятиэтажкой, облицованной веселой пестрой мозаикой, начинался лес; поблизости располагались частные дома, городская баня, здание сельскохозяйственного техникума, общежития... На теплых пузатых трубах грелись кошки, на бельевых веревках во дворе полоскалось свежевыстиранное белье – когда потеплее, не в самые морозы, – с горки, устроенном на большом насыпном холме, засаженном соснами, катались дети. Холм украшали две белесо-сероватые фигуры – атлетически сложенные парень и девушка, девушка держала шар, парень ничего не держал, но по нему было видно, что он готов ко всему, с таким было, наверно, нестрашно пройти по темной улице. Потом у него отобьют руки, и искалеченный, он будет вызывать странное, тоскливое чувство, как будто перед тобой живой человек, а не скульптура.
Надя с мамой жили в первом подъезде той самой пятиэтажки. Мама работала нянечкой в детском саду. Как почти все дети военных лет, маленькая, низкорослая, с теплыми руками и ровным, ласковым голосом, мама была любима своими воспитанниками: они, с полутора лет отданные на чужие руки, прекрасно знали, что вовсе не все из ухаживающих за ребятами такие... Выдержанные, спокойные, терпеливые.
Наде было под тридцать. Она тоже была спокойной, уравновешенной – и красивой. Густые каштановые волосы струились по плечам ласковой волной, а в глазах светились жизнелюбие и добрый, незлобливый юмор.
Едва ли не каждый вечер, когда мама садилась перед телевизором смотреть сериалы, Надя ходила гулять в лес. Шедшая под уклон дорога, почти всегда пустая, вела к заброшенной танцплощадке – когда-то сюда съезжались на отдых со всего города – и деревням, в которых еще держали коров и кур. Сосновые ветви, набрякшие от снега, тревожно вздрагивали, колыхаясь на ветру, Надя брела по колее и думала о своем. А может быть, и не только думала, может быть, ее ждал кто-то, может быть, когда она уходила, ее сердце билось сильнее, и замирало, и плакало в тоске и надежде...
Едва ли не каждый вечер Надя ходила гулять в лес.
Но в тот, последний, она не пришла.
И вот закончилась передача, и время прошло, и еще время прошло, и еще, а Нади все не было – и мама, и так всегда чуточку волновавшаяся, когда дочь выходила из дома, по-настоящему испугалась.
Испугалась так, что – скромная, боязливая, стеснительная, всегда словно стремившаяся не обременять людей вокруг, не утруждать лишний раз – она позвонила в милицию.
– Пропала дочка... Пропала. Ушла в лес – и не вернулась.
– Что ты, мать, загуляла твоя дочка, большая. К любовнику пошла, а ты уже всех на уши поставить готова.
– Не могла она уйти, она не такая, она ведь всегда приходит. Это же Надя. Моя Надя.
– Дыши глубже, бабка.
Принять заявление отказались.
И прошла ночь. И прошел день. А Нади не было.
Ее нашли у избы, мрачно рассевшейся на перекрестке, там, где дорога шла под уклон. Она лежала на залитом кровью снегу, застывшая и спокойная, с разрезанным животом и вытащенными наружу внутренностями, с иссеченными грудями, с разметавшимися волосами, которые никогда, никогда больше не заструятся по плечам ласковой теплой волной.
Холодная, спокойная, бессловесная...
Матери тело не показали. Для нее Надя навсегда осталась живой – такой, какой она запомнила ее, когда садилась смотреть «Санта-Барбару». Доброй, послушной дочкой, с которой не было хлопот.
Когда хоронили, на снег кидали ломаные еловые ветки. И люди несли к подъехавшей с гробом машине цветы – им было не жалко, не жалко своих копеек, слишком силен был общий ужас перед случившимся, слишком велико общее горе.
А дети спрашивали:
– Зачем еловые веточки на снегу?
– Затем, что Надю убили... Убили Надю.
Говорили разное. Говорили, что Надя будто бы встречалась с «черным», нерусским, ведь русский человек никогда не смог сотворить бы такое. Говорили, что в городе завелся маньяк, и ждали новых убийств.
Никого так и не нашли.
Детей перестали пускать на горку. Страшно.
Кто же хотел, чтобы с ними случилось то, что с Надей?
А потом прошло время... Ужас подзабылся, и снова стали пускать.
Ведь детей нельзя всегда держать дома.
«Вымороченный род», – говорили люди. «Не повезло», – говорили они.
Муж надиной мамы давно умер, сын утонул в молодости. Теперь вот и дочки не стало.
Гадали, кому достанется квартира. Правда, вот у сына вроде бы была жена. Она снова вышла замуж, но будто захаживает к старухе. Так, может быть, ей.
Новый год начинается с отличных новостей. Вышли в свет две моих новых книжки. "Проклятое призвание" - реалистический роман о художнице и ее сложных отношениях с действительностью. И "Погода на завтра" - сборник повестей и рассказов, основной массив того, что я сделала в малой и средней форме за 25 лет.
Мои подписчики имели возможность ознакомиться с романом, а также большей частью рассказов. Но, возможно, кому-то захочется приобрести печатную версию, да и выкладывала я не все. Тексты отредактированы и приведены в соответствие с мировосприятием Розенталя.))
Хотелось бы поблагодарить тех, кто работал над книгами: корректора Ирину Кварталову, художников Елену Козину и Софию Хаимович, а также коллектив издательства "Автограф". Без них книги в своем материальном воплощении были бы совсем другими. А мне нравится то, что получилось.))
Приобрести их можно на озоне и на сайте издательства.
Проснувшись и почистив зубы, Олег берет смарт, заходит в телеграм и пишет «Доброе утро, солнышко. Как спалось?» Заваривает кофе, включает комп и принимается за работу. Работы у него много. Как всегда. Впрочем, и деньги он зарабатывает приличные. Что и неудивительно, грамотный айтишник никогда не пропадет.
«Хорошо, но мало, – вскоре приходит ответ. – А ты как?»
Согревает мимолетное чувство тепла и привязанности. Олег – нормальный человек. Ему, как любому, важно знать, что он кому-то нужен. Кто-то его ценит. И не только за профессиональные качества (в них-то он не сомневается).
«Штатно», – отвечает Олег и включается в работу.
Определенно, удаленка – лучшее, что случилось в его жизни.
Не надо ехать в офис, сталкиваться с людьми в общественном транспорте или стоять в пробках (Олег вообще не любит водить), общаться с коллективом… У себя дома, в любимом роскошном кресле, под стать какому-нибудь крутому гейм-дизайнеру, Олег чувствует себя спокойно и уютно, как в капсуле космического корабля, несущегося по просторам вселенной. Все тревожное, непредсказуемое, опасное там, снаружи, а он здесь, здесь, где он контролирует ситуацию, решает решаемые задачи, руководит… чем? В первую очередь – своей жизнью.
Олег живет один. Ипотека закрыта, беспокоиться не о чем. По выходным он ездит к маме – поесть пирожков и обнять милую, интеллигентную женщину, для которой он является самым дорогим существом на свете и единственным смыслом жизни. Он чувствует перед ней смутную вину, как будто недодал чего-то или не отплатил в полной мере за положенную на него жизнь, но не до конца осознает это чувство. И поэтому без лишних комментариев оставляет деньги, оформляет заказы в аптеке и супермаркете, даже иногда протирает полы и моет посуду. Мама трусовато отказывается от приобретения посудомоечной машины, и Олег, уважая ее выбор, не спорит.
А вот Юля живет с родителями. Она тоже на удаленке, дизайнер. Как и он, она никогда не была в браке – впрочем, что в наши дни значит штамп? А «отношения» не приводили к чему-то серьезному.
В течение дня, подспудно радуясь возможности отвлечься от работы, Олег еще несколько раз ей пишет. Юля с живостью отвечает. Ее сообщения всегда пространны и куда эмоциональнее его суховатых месседжей. Она делится скринами проекта, над которым сейчас работает. Ей важно услышать стороннее мнение, а Олег радуется возможности размять мозги и переключиться на что-то, что кардинально отличается от его обычной деятельности. Находясь за две тысячи километров друг от друга, они на одной волне, между двумя столь разными людьми тонко дрожит незримая ниточка, струна, кажется, готовая вот-вот лопнуть… но не лопающаяся почему-то. Вот уже три года не лопающаяся.
Им хорошо вместе. Они прекрасно изучили друг друга. Знают, какие любят книги, фильмы и музыку, досконально изучили пищевые привычки и режим дня. Они знают друг друга так хорошо, как это не всегда удается людям, прожившим всю жизнь в одной квартире.
Вечеров, закончив работу и наскоро поужинав разогретой в микроволновке покупной лазаньей, Олег вытаскивает себя на прогулку. Свежий воздух приятно холодит лицо. Олег думает о том, что он очень любит свой маленький, не слишком развитый, но уютный город. Думает о том, как ему повезло тут родиться… и что он никогда его не покинет.
А перед сном, лежа в кровати, полчаса попереписывавшись с Юлей о впечатлениях дня (у нее, творческой натуры, впечатлений как всегда больше) и полюбовавшись на ее новые фото, выложенные в нельзяграмме, Олег думает о том, как ему повезло, что у него есть такая умная, такая чуткая и красивая девушка. Та, кто понимает его лучше, чем он сам, внимательная, отзывчивая и практически всегда онлайн. С ним случилось то, что дается в жизни далеко не каждому – он встретил родственную душу, и за одно это можно вечно благодарить судьбу…
Но все же есть у девушки качество, которое даже важнее ее красоты, ума и эмпатичности. И Олег в глубине души прекрасно понимает это, как все мы понимаем про себя самые важные вещи.
Она никогда не приедет.
Ей тоже очень нравится ее город.
И от этого Олег любит ее еще сильнее.
Это рассказ не обо мне и не о вас, а о той соседке, которая живет рядом с вами уже пять лет и имя которой вы не можете вспомнить при встрече, когда вечером сталкиваетесь по дороге к вонючему провалу мусоропровода.
У нее коса до пояса – что-то среднее между льном и летней заячьей шерсткой, – цвет глаз колеблется между голубым и серым, зовут ее почти наверняка Олей, и вся жизнь ее – вечная унылая болтанка между непотребной двойкой и желанной четверкой. Она с трудом дотягивает до девятого класса, а потом пытается поступить в какой-нибудь техникум сельскохозяйственного профиля… Ей не везет по жизни, тот самый синеглазый едва удостаивает ее рассеянного взгляда, она приличная кулинарка, но не складывается. Спросите ее «Как жизнь, Лелька?», «Нормально», – скажет она, сопровождая ответ удивленной улыбкой: надо же, кто-то поинтересовался ее делами. Через пять минут довольно вялых попыток растормошить эту безличную Лиловость из романа Клиффорда Саймака вы, скорее всего, потеряете к ней интерес – навсегда.
Где-то в девятнадцать у нее появляется ребенок – без папаши, разумеется, – она бросает техникум и принимается за поиски работы на рынке – знаете, за лотком, на морозце.
В глубине ее серо-буро-малиново-голубых глаз вы редко обнаруживаете что-то кроме чуточку удивленного вопроса «Почему это меня, такую замечательную, никто не любит?», потаенных амбиций и непонимания происходящего. Лишь изредка в них мелькает какой-то смутный отблеск… огонек… крохотная искорка, но вам некогда, некогда! – вы не можете тратить время на поиски этой малюсенькой искорки, вы спешите дальше по своей жизни, которая с периферии кажется такой яркой и интересной…
Может, года через два кто-нибудь спросит:
– А что сталось с этой… из двадцать восьмой квартиры?
В ответ пожмут плечами, немного удивленно пожмут плечами, а тот, кто спрашивал, забудет про свой вопрос.
Его увижу — сердце сразу
В моей волнуется груди.
Народная песня
А ведь нужно было готовиться к следующей выставке.
С предыдущей прошло уже много времени. У меня еще в прошлом году была заключена договоренность с одним из арт-центров моего города об участии в коллективном проекте местных художников.
Нужно было заниматься делом.
С этими мыслями я разбирала рюкзак и рабочий стол.
Как ни странно, я не чувствовала ни обиды, ни гнева.
Все, что происходило, было ожидаемо и предсказуемо.
Эмоций было потрачено уже столько, что душа как будто выгорела до дна. Я не хотела ни мстить, ни доказывать свою правоту. Я просто хотела наконец забыть обо всем этом.
Вечером зашла Юла. Прибежала поболтать и показать рисунки.
Я была рада ей, действительно рада, но по поводу рисунков не нашлась что сказать. Мне они совсем не нравились.
Юла была очень талантливой, но на одних способностях не уедешь. Нужен систематический труд, упорная каждодневная работа, тогда есть шанс, что получится что-то стоящее.
Мое молчание подруга, кажется, поняла правильно. Во всяком случае не стала вытаскивать комплименты клещами.
– Пойдем сегодня в лофт? Там сегодня вроде собрание местных поэтов… Будут говорить об Андрее Белом и Цветаевой.
– Почему бы и нет. Займусь рабочими делами завтра. Еще есть время.
Как ни странно, снег еще не раскис, трансформировавшись в отвратительную липкую грязь, и мы с Юлой бредем по почти чистой и почти зимней улице. Кажется, все вокруг радуются зиме, во всяком случае по дороге мы замечаем, как несколько человек фотографируется на фоне укрытых снежком деревьев.
Да и вообще люди не такие хмурые и мрачные, как обычно.
В лофте тепло и уютно. В этот раз здесь гораздо приятнее, чем на каддл-вечеринке. И гораздо пристойнее – молодые мужчины и девушки расположились на мягких пуфиках и креслах, большинство из них, видимо, хорошо знакомы. На столике ждут своего часа самовар, чашки, коробка с чайными пакетиками, печенье. Красота да и только.
Ребята, пришедшие на встречу, явно в теме. Я некоторое время слушаю их обсуждение, но мне быстро становится скучно. В действительности мне не очень интересен Андрей Белый и Цветаева. Я всегда была достаточно равнодушна к символистам, а стихи Марины Ивановны вызывали желание дать лирической героине носовой платок – я устала от истерик.
Тихонько, не привлекая внимания, я выхожу на улицу подышать свежим воздухом.
У крыльца курит парень.
Я вздрагиваю от узнавания – я ведь его уже видела.
У меня хорошая память на лица. Профессиональная.
Мы как-то встретились, когда я шла от Ляськи. Он вот так же курил на остановке, и я засмотрелась на него, а потом он поймал мой взгляд, и я отвернулась.
Я тогда подумала: нет-нет-нет, никах новых людей в моей жизни.
Но, наверное, сейчас я была в другом эмоциональном состоянии.
Он мне очень понравился.
В его сдержанной красоте было что-то холодное, но надежное. Безэмоционально-суровое, какое-то чуть деревянное. У него была очень прямая осанка, какую редко встретишь. Сигарета сумрачно тлела в тонких пальцах. Морщинки вокруг глаз выдавали внутреннее напряжение.
«Симметричные черты лица, – машинально отметила я. – Нос, может, чуть великоват. Губы очень красивые… И глаза умные. Опасные…»
Интересно, что он тут делал? Явно не о литературе пришел поговорить.
– Угостите даму сигареткой? – попросила я и поразилась тому, как дрогнул голос.
Наверное, это прозвучало максимально тупо. Парень поморщился.
– Девушкам курить некрасиво.
– Э, ну ладно, не буду. К тому же я не курю.
– Зачем тогда спрашиваете?
– Хотела с вами познакомиться, – обезоруживающе улыбнулась я (во всяком случае понадеялась, что обезоруживающе).
– Смело.
– Ну… что говорить. Да. Иногда я способна на дерзкие поступки.
На самом деле мне было страшно. Так страшно, что даже странно.
Еще утром я думала, что навсегда лишилась способности что-то чувствовать.
– Влад, – парень затушил сигарету.
– Аня. Правда, близкие называют меня Нетой.
– Нетой?
– Как Неточку Незванову.
– Вам нравится Достоевский?
– Я… Ну, да, наверное. Мама любила его в молодости. Это она придумала такое имя.
– Интересно.
– Как вы тут оказались? Я пришла на встречу поэтического клуба, но, кажется, тема сегодня не моя…
Влад проигнорировал вопрос.
– Вы поэт?
– Художница. А вы?
– Военнослужащий.
– Да? Здорово.
В моем голосе нет уверенности, но кажется, мне действительно это нравится.
Может быть, мне давно нужен был кто-то более адекватный, чем я. Более обыкновенный. Более предсказуемый.
Парень улыбнулся.
– Не хотите погулять по первому снегу?
– Да, конечно, я скажу подруге… да я ей и потом, в общем-то, могу написать… Да!
Наверное, такая бурная реакция выглядела забавной. Во всяком случае Влад снова улыбнулся. Было видно, что я ему нравлюсь.
Внезапно зажглись фонари, освещая бледно-серый асфальт, запутанные ветви деревьев, коробочки старых пятиэтажек. И мир снова стал другим. Совсем другим, чем прежде.
КОНЕЦ
2023-2024