
Проклятое призвание
56 постов

56 постов

2 поста

12 постов

16 постов

21 пост

12 постов
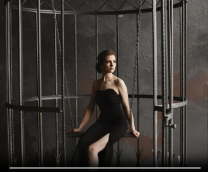
10 постов
И ты вышел во двор, и ты сел под окном,
Как брошенный пес.
«Чайф»
Я выкинула Войцеховского точно так же, как выкинула в свое время Дэна. Просто удалила из своей жизни.
Конечно, Лешка еще зайдет. Хотя бы потому, что живет неподалеку. И потому что ему нужно кому-то пожаловаться. Поныть в дружески подставленное плечо. И потому что я связана с его юностью, временем, когда мы, наверное, были свободнее, чем сейчас, даже я.
Времени, когда мы еще были полны оптимизма и смотрели в жизнь с надеждой на лучшее.
Мы оба остынем, и на этой кухне еще будет место для него.
Но сейчас я зла и не хочу его видеть.
Вспоминается мне и один момент из детства.
Когда мне было лет шесть-семь, мать жила формальным браком с одним мужчиной, Геннадием, которого я даже называла папой. Все было серьезно, разговоры у них шли о совместных детях, штампе в паспорте и так далее. Наверное, если бы моя мать была более-менее рядовой женщиной, так бы оно и вышло. Однако она была несколько другой.
Ко мне Геннадий относился очень хорошо, гораздо лучше, чем родной отец. Когда я приходила из школы, он всегда спрашивал, как у меня дела и слушал с интересом. «Похвастайся», – говорил он. И я, удивленная тем, что это все кому-то надо, с удовольствием рассказывала о том, что узнала нового, про отметки и про друзей. Он подкидывал меня высоко-высоко, до самого потолка, и я визжала от восторга. Помню свое изумление от того, что оказывается, с папой может быть так – интересно. Мой родной отец никогда не уделял мне столько внимания.
Формирующуюся семейную идиллию разрушил случай. Соседка как-то зашла за сахаром. Мать, какая угодно, но только не жадная, конечно же, отсыпала сколько нужно. Геннадий, видевший это, сделал ей замечание: «Что это ты всем сахар раздаешь? Так и не будет». Видимо, он был несколько прижимист, жил по принципу «все в дом».
«Как, ты еще будешь мне указывать, что мне делать с моим сахаром?» – поразилась мать. И чуть ли не в тот же день выгнала Геннадия из дома. Выпнула под зад ногой. Он собрал вещи и уехал.
И почти сразу в нашем доме снова появился отец, которого я не ждала и которому была вовсе не рада. «Вот, ты чужого дядьку папой называла», – попрекал он меня, а я злилась, не находя ответа. Слов для логической аргументации, вербальной борьбы еще не было.
Как-то, приученная к тому, что после школы можно рассказывать про успехи, попыталась повторить это с отцом. «Я хочу похвастаться!» – заявила я. «Хвастаться нехорошо», – строго сказала мать. И я обижено замолчала, не понимая, почему с неродным папой было можно, а со своим нет. Отец молчал, ему было все равно. И снова пошла прежняя жизнь: со мной никто не играл, моими рисунками никто не интересовался. Мать драла по утрам волосы, заплетая косы, а я беззвучно лила слезы на кухонный стол: вслух плакать было нельзя, она бы разозлилась еще больше. Я знала, что будет хуже – и молчала.
Помню, что уже тогда жить с отцом страшно не хотелось. Меня он не замечал, а с матерью они постоянно скандалили и даже дрались. Без него было лучше, тише. И я мечтала о том, чтобы его не было. И однажды добилась-таки своего: они разошлись окончательно, но я тогда была уже подростком, почти взрослой. Наверно, глубоко неправильно не принимать во внимание мнение подрастающих детей, их желания и воля вовсе не равны нулю, как кажется порой взрослым.
Вероятно и то, что дело было вовсе не в сахаре, этот эпизод, как часто бывает, был только предлогом. От отца мать ведь терпела и не такое, а гораздо худшее. И тут, наверно, бы утерлась, не побрезговала. Уже будучи взрослой я услышала от отца другую версию событий.
«Приходит она ко мне раз пьяная-распьяная. Ну, открыл дверь, пустил. Чего надо? Уложил спать в другой комнате. Нет, пришла, вьется, вьется, чего хочет – непонятно. Я ей говорю, ты живешь с Геной, отстань. Нет, все чего-то надо. Так и не пустил к себе, оставил спать в твоей кровати. Утром ушла. А дня через два узнаю, что Геннадий выгнан из какой-то ерунды».
Скорее всего, отец ей больше нравился в постели. Она его хотела – больше, чем других. Поэтому и прощала – за все, поэтому и выгнала другого мужчину. Предлог всегда можно найти. Было бы желание.
Все живут в своих интересах. Моя мать не была исключением. Она никогда не делала себе хуже. Кто знает, может, жизнь с отцом, полная скандалов и адреналина, как на американских горках, была для нее привлекательнее стабильного предсказуемого существования, которое у нее было бы с другим человеком.
Или, вернее, там был такой секс, ради которого на все остальное она готова была закрыть глаза.
Самое страшное, что чем старше я становилась, тем больше узнавала в себе мать, хотя и внешне, и даже по характеру мы были вроде бы вообще не похожи. Я была куда мечтательнее, меланхоличнее, медленнее и, пожалуй, слабее. Мать была деятельной и практичной, а я склонна к философии. С другой стороны, мать жила одним днем, а я была способна к долгосрочному планированию. У матери всегда не было денег, а я никогда не жила в долг.
Я считала себя умнее ее, хотя по привычке боялась. Она имела надо мной какую-то власть, которую не имел никакой другой человек. Я никогда не относилась так к бабушке. Только мать могла меня истерзать и измучить до полного обалдевания, и я думаю, никто из тех, кого я любила, не понимал, до какой степени я зависима от мнения матери.
Я не знаю, какую роль в моем развитии сыграл тот эпизод с сахаром (я в силу малолетства ничего не могла поделать, меня поставили перед фактом). Но все чаще я видела в себе мать. И расчесывая волосы перед зеркалом, вдруг узнавала ее взгляд, ее улыбку. И вздрагивала, поражаясь. Легкое безумие и твердость были в этом взгляде, непробиваемость и адское самолюбие.
Нас делают гены и воспитание. Порой мне кажется, не мы выбираем дороги, а то, что заложили в нас наши родители. И идти нам предначертанной колеей – которая не могла быть другой. Так или иначе, общие очертания судьбы уже определены, за нас нарисованы. И какое бы решение мы ни приняли, в итоге мы все равно получаем что-то такое, что, если разобраться, другим не могло быть, потому что не могло быть никогда.
Боль – это боль, как ее ты ни назови.
Это страх, там, где страх, места нет любви.
«Агата Кристи»
После исчезновения Войцеховского я еще час не могу уснуть, нервно пью чай, смотрю в окно на проезжающие мимо автомобили. Гнев спал, но возмущение еще бурлит у меня в душе. Я похожа на остывающий чайник – остывающий медленно.
Никому не позволено оскорблять меня, тем более у меня дома.
Тем более, когда дело касается Искусства.
Священного, драгоценного. Самого главного.
Герой «Козленка в молоке» Полякова, помнится, писал «главненькое». А у меня все – главненькое. Каждая новая картина, каждый рисуночек. То, над чем работаю сейчас, и есть главненькое.
И за него – порву. Уничтожу.
Задушу голыми руками.
Все равно что новоиспеченной матери кто-то бы сказал, что не надо рожать. Убила бы.
Вот и я – тоже.
Может быть, если бы критика прозвучала бы со стороны знающего человека, чье мнение для меня ценно, со стороны мастера, это бы меня задело как художника.
Но Войцеховский – да, друг, да, товарищ юности, но все-таки полный профан – только взбесил меня.
Тем более что никакой критики собственно и не было, он просто поставил под сомнение важность того, чем я занимаюсь, чему я посвятила жизнь. По сути он сказал, что то, что я делаю – ерунда.
И как это я его еще не распяла?
На месте, без суда и следствия.
Легко отделался.
Зачем он приходил, черт его дери. Пьяный, среди ночи…
Пожаловаться?
Или за чем-то большим?
Так и не поняла.
Было дело, когда-то, лет в шестнадцать, он мне нравился, да и я ему вроде как тоже. Но чувство это было мимолетным, неглубоким и ни к чему не привело. Меня оскорблял кобелизм Войцеховского, то, с какой легкостью он переключался между девчонками. К тому же от его рассуждений у меня шла кругом голова. Меня поражал хаос, царящий в его черепушке: за десять минут он умудрялся утверждать совершенно противоположные вещи. С ним было совершенно невозможно спорить, потому что у него не было единой позиции, вернее, она менялась каждые пять секунд.
С такими людьми уже в академии и после я пересекалась редко или, может быть, они просто не задерживались в моем кругу общения. Я не дружила с людьми, которые не могут читать, которые вообще не понимают, что такое искусство.
Да, ребята, с которыми я общалась, были вовсе не ангелы, но они хоть как-то дружили с логикой.
О Войцеховском этого сказать было нельзя.
Конечно, он был адаптирован в социуме, умел жить, умел зарабатывать, но при этом как-то все у него было «без царя в голове». Без генеральной линии.
Это казалось мне тем более странным, что Лешка был очень музыкален, действительно талантлив. У него был абсолютный слух и чудесный голос. В песни он вкладывал душу… И как такой человек мог сказать, что то, чем я занимаюсь, ерунда?..
А может, просто потому, что ему пришлось расстаться с мечтой об игре в рок-группе, расстаться с идеалами юности?..
Я же ни за что не променяла бы свою нищую свободу на сколь угодно благополучное обывательское существование.
Неважно. Оскорблять меня никому не позволено.
Тем более в таком аспекте.
Не позволено, не позволено…
Тогда почему?
И мозг ехидно подсовывает картины прошлого.
Издевательские комментарии Вика буквально обо всем (у него была странная манера упражняться в сарказме за счет окружающих, особенно близких, и чем ближе был к нему человек, тем больше ему доставалось). Годы в потоке язвительных шутеек – сложно объяснить, что это такое, человеку, который никогда с подобным не сталкивался.
Только, когда этого не стало, я вдруг поняла, как меня выматывало это постоянное высмеивание, в основе которого лежали, конечно, неуверенность в себе и собственные проблемы.
Но почему-то Вику это позволялось. То, что не позволялось никому больше.
А ведь было и другое.
Чужие руки на горле.
– Не трогай, не трогай…
Ремень, оставляющий красные полосы на белой коже.
Боль, сливающаяся с наслаждением, так, что непонятно, где кончается одно и начинается другое.
Растерзанное, ошалевшее, потерявшееся от сломанных границ тело.
Ничего не понимающая душа.
Но ты ведь прекратила это, прекратила сама, вышла из порочного круга зависимости…
Просто встала и ушла, и никогда больше не вернулась.
Причем для этого даже не пришлось прилагать каких-то фантастических усилий.
В один прекрасный момент все рассыпалось само по себе. И не нужно было бороться с собой, потому что перестало тянуть. И не хотелось идти – было как будто больше не за чем.
Как будто кончилось время, когда можно было быть чужой игрушкой.
Тот, чью власть принимала с таким восторгом когда-то, стал больше не нужен.
Осталось только недоумение: а что это было?
И разве можно было вообще так забыть себя, чтобы ставить чужую волю выше своей, чтобы растворяться в мужчине – до самозабвения, – чтобы на какое-то время поставить его выше всего, выше себя, выше своего творчества…
Позволить собой управлять – позволить себя использовать.
А Войцеховский-то, конечно, так бы и не смог. У него просто не было моральных сил, чтобы подчинить меня. Чтобы мне захотелось – подчиниться…
И поэтому я не могла даже и представить его в этой роли.
Но и никого другого тоже – не то что не могла, не хотела.
Никогда больше.
Николи знову.
Я не буду ничьей игрушкой – я буду сама по себе. Нета с карандашами. Нета с фломастерами. Нета рисующая. Нета без зависимости и без любви.
И в то же время я, конечно, понимала, что раз мне приходится давать установки и мысленно составлять программные спичи, значит, есть возможность для того, чтобы что-то подобное еще вернулось в мою жизнь. Чтобы меня опять потянуло – в чужие руки, дарующие ласку и боль.
Потому что когда нет потребности, когда не тянет, тогда нет и борьбы.
Если ты говоришь «никогда больше», значит, ты все еще зависим… Ты не вылечился. Ты все еще болен.
Болен желанием испытывать боль. Потому что боль, смешанная с любовью, лучшее лекарство от тревоги. И в твоих поломанных мозгах именно это сложное чувство связано с безопасностью.
Чудовищный гормональный коктейль, кипящий в крови, заставляет стремиться к тому, чтобы снова оказаться в роли рабыни. Боль и унижение даруют свободу – от ответственности, от ненужных мыслей, от себя.
А прекратила ты это не потому, что ушла потребность – просто человек перестал нравится. Ты больше ему не верила. И это значит, что однажды…
Все может повториться.
Весь этот кошмар снова станет твоей жизнью.
И ты ничего не сумеешь сделать.
Не будут ничего, что ты сможешь противопоставить заложенной в тебе деструктивной программе.
Над тобой встают, как зори,
Над тобой встают, как зори,
Нашей юности надежды.
Юрий Антонов
Рустам позвонил той же ночью. Звал к себе, обещал, что мы будем просто разговаривать и слушать музыку. Может быть, посмотрим кино. Я категорически отказалась, хотя вообще сорваться куда угодно в любое время суток было для меня обычным делом.
Я жила в своем графике, в своем режиме. Нищая, но свободная.
Крылатая и независимая.
Спасибо маминой квартире, угу.
Просто мне не хотелось к нему ехать.
Мне было его как-то жалко – за нищее детство в большой семье, раннее сиротство, распавшуюся семью и сына, живущего отдельно (единственного сына). За то, что он «чужак в стране чужой» и никому по сути тут не нужен.
Но жалости было недостаточно для того чтобы ехать.
Я была не настолько доброй.
А в полночь ко мне завалился Войцеховский.
Я, конечно же, не спала, я ложусь поздно или вообще под утро. Вечерне-ночные часы – самое лучшее время для работы.
Но все-таки и гостей я в такое время, как правило, не принимаю. Ну, очень редко.
С Войцеховским мы дружили в школе. Он учился на класс старше, мы тусовались в одной компании. Лешка играл на гитаре, я тоже что-то там пыталась изображать. После поступления в академию наши пути разошлись: я почти все время посвящала учебе, Войцеховский начал жить с девушкой. К тому же тогда уже все было серьезно с Виком, большую часть свободного времени я проводила с ним, и на общение с приятелями из старых компаний почти не оставалось времени.
Личная жизнь совершенно поглотила общественную.
Общение возобновилось после того, как я и Вик расстались. У меня тогда вообще всплыло много старых, казалось, безвозвратно утраченных контактов. В первую очередь потому, что у меня просто появилось время на других людей. Во вторую – наверно, потому, что мне было одиноко и требовалась поддержка.
Другие люди помогали не сойти с ума и переключиться.
А когда ты на практике ощущал, что, в общем, много у кого такая же задница, становилось вообще как-то почти спокойно.
Войцеховский позвонил не в домофон, а в дверной звонок. Что меня очень удивило.
Обнаружив его у своей дверной двери, я открыла и первым делом спросила, как он, собственно, попал в подъезд.
– Тетка какая-то с собакой выходила, – непонятно объяснил Войцеховский.
Непонятно, потому что никаких теток с собаками среди моих соседей вроде бы не числилось, но я решила не акцентировать внимание на этом моменте.
– Что привело?
Войцеховский был не пьян, но, конечно, и не трезв. Да и вряд ли он пошел бы ко мне в такое время на трезвую голову, разумеется.
– Нета, я соскучился… Могу я просто соскучиться?..
– И все?
– Ну…
– Да говори как есть.
– Мы с Ленкой расстались.
– В который раз, собственно?
– Не издевайся.
Про сложные, тянущиеся еще со школы отношения с Еленой я была наслышана. В их споре я не занимала никакой позиции, потому что, на мой взгляд, в этой сваре, как обычно и бывает, все были хороши. По большому счету мне было наплевать на то, кто кому с кем изменил и что обо всем это думает тетя Маша. Оба были взрослыми людьми, которые вроде как должны были отвечать за свои поступки.
В теории.
– Ну проходи, раз пришел.
Войцеховский – невысокий, но крепкий блондин с утонченными, гладкими чертами лица. В школе девчонки справедливо считали его смазливым.
Симпатичный сладкоголосый мальчик с гитарой, такой романтичный, будто с обложки глянцевого журнала…
Меня Войцеховский бесил своей ветреностью – до встречи с Еленой он менял девчонок, как перчатки. Да и потом случались инциденты.
Мне он свое поведение, правда, объяснял какой-то несчастной любовью, накрывшей его в пятнадцать лет, но в это что-то слабо верилось. Точно таким был и его отец, дядя Саша, которого я хорошо знала.
Войцеховский пристраивает кожаную куртку на вешалку (он все еще носит косуху), и мы проходим в кухню.
Я завариваю чай.
– Ну, рассказывай.
Но Войцеховский почему-то не горит желанием рассказывать (вероятнее всего, его роль в происходящем вовсе не такая безобидная). Вместо этого он начинает расспрашивать о моей жизни, прошедшей выставке, общих знакомых.
Мы мирно болтаем, я подливаю чай. Чай – это религия, ничто в мире не может быть безнадежно плохим, когда есть чай.
Режутся и выкладываются на стол бананы и апельсины, купленные Рустамом.
– Я думаю, тебе нужно жениться, – замечаю я.
– Зачем?..
– Семья, дети… Это вечное. Надо для кого-то жить. Вы с Ленкой столько лет вместе.
– Ты что-то не вышла замуж.
Я морщусь.
– У меня другое. Да и я была почти замужем много лет.
– Ну, так и я «почти». А дети… Это же жуткая ответственность… Ответственность за жизнь… К этому вопросу надо подходить с умом.
– Да пока вы ждете, момент может быть упущен. Здоровье обвалится, еще что-то, в стране бахнет какой-то кризис… Эти вопросы нужно решать пока молодой.
– Оставь, Нета. Тебе не идет эта роль.
– Отчего же? Подумай о будущем. О старости.
– Я никогда не состарюсь! – с вызовом смотрит на меня Войцеховский. – Я не состарюсь никогда!
Он говорит это с такой энергией, как будто Косая уже стучит в дверь.
Не спрашивай, по ком звонит колокол – он звонит по тебе.
– Это общий удел.
– Слушай, Нета, чья бы корова мычала. Я бы понял, если бы меня сейчас начала учить жизни тетка, у которой семеро по лавкам. Но у тебя никого нет! И кажется, не предвидится!
– У меня есть Другое.
Я с яростью гляжу ему в глаза. Хватаю за руку, волоку в комнату. Указываю на картины, мольберт, кисти, краски, карандаши, фломастеры…
На все то, что составляет смысл моего дурацкого существования.
– У меня есть Это. А у тебя – только старая косуха, песни, половину из которых ты уже забыл, и Ленка. Которая, между прочим, тебя любит.
Войцеховский пристально смотрит мне в глаза и медленно, по буквам, выговаривает:
– Дура.
– Что?!
– Какая же ты дура.
Я чувствую, как темнеет в глазах. Они в буквальном смысле наливаются кровью.
– Вон отсюда!
– Что?.. Не делай этого.
– Вон отсюда! Что бы я тебя больше не видела!
– Не делай этого, мне потом плохо будет.
– Проваливай!
Я волоку Войцеховского к двери. Он, надо сказать, не сильно сопротивляется. Видимо, понимает, что вечер уже в любом случае перестал быть томным и надо заканчивать. Швыряю ему куртку.
– Одевайся! Я не хочу тебя видеть!
Последняя попытка:
– Нета, пожалуйста…
– Проваливай!!
Больше Войцеховский не пытается возражать.
Я почти выталкиваю его из квартиры и захлопываю дверь.
Меня трясет.
Принимать гостей по ночам – определенно не лучшая стратегия.
Интересно, как ты там,
Буду думать, что в порядке
Земфира
А вечером позвонила мама.
– Здравствуй, дочь. Как у тебя дела?
– Нормально, вот на свидание сходила.
– И как?
– В кафе посидели. Мясо было вкусным.
– Ну хоть поела. А кто он?
Я кратко набрасываю портрет.
– А сколько ему лет?
– Я не знаю точно. Ну, может, сорок пять-сорок семь...
Зловещее молчание.
– Дочь, не повторяй моих ошибок. Старики-пердуны нам не нужны. Ищи мужика моложе себя.
– Да зачем он.
– Поверь, доживешь до моих лет, поймешь.
– Малолетки не хотят ничего серьезного.
– А оно тебе надо? Не надо серьезного. Гуляй.
– Мужчины постарше хотят семью, детей… Ну, некоторые из них…
– Даже не думай. Родить от такого его можно, а его самого потом куда девать? Кстати, как твой картавый?
– Без понятия. Мы не общаемся. А как у тебя с Павлом Игоревичем, вы не помирились?
– А мы и не ссорились.
Мы еще немного говорим о текущем. Мне не нравится состояние матери. Я чувствую, что она злится. Ее все раздражает, и причина не во мне. Это вызывает во мне тревогу. Кто знает, что отчудит маман? Она на все способна.
Впрочем, как бы ни шли ее дела, возвращаться из Москвы в родной город она, судя по всему, не собирается. Да и немудрено. Что ей тут делать?
А в столице? Маман уже много лет не работает.
Но там у нее статус офицерской жены и сложившийся образ жизни.
Едва ли она пожелает потерять это из-за некоторого эмоционального дискомфорта. Вероятнее всего, ее проблемы надуманы. Ничего серьезного не происходит.
Я уговариваю себя, но полной уверенности у меня нет. И после разговора на душе остается какое-то тяжелое, тревожное чувство.
Настроение матери просто не могло на меня не влиять, несмотря на то, что мы давным-давно не жили вместе и наши отношения были далеки от идеала. Но если ей было плохо, мне почему-то было плохо тоже. Наверное, в этом был какой-то глубокий биологический смысл. Нерасторжимость связи самки и детеныша. Но мне порой было очень тяжело от этой связи и хотелось разорвать ее, сделаться совершенно независимой от матери, чтобы ее настроение и состояние дел не влияли на меня и мою жизнь. Чтобы она в конце концов просто оставила меня в покое.
Почему-то не получалось.
Конечно, я понимала, что по сути ей скучно без работы и нечем заняться. И поэтому можно звонить мне по пять-шесть раз на дню, устраивать истерики, давать ценные советы и грозно дышать в трубку. Что в сущности все это поиск внимания и любви…
Но от этого пристального и не всегда дружелюбного внимания, казалось, можно сойти с ума.
Хотелось покоя.
Мать порой была похожа на капризного требовательного ребенка, который не мытьем, так катаньем добьется своего. Она критиковала мою одежду, моих парней, мой образ жизни, мои картины. Не обращать внимания на ее придирки я не могла, игнорировать ее звонки – тоже.
Было дело, я пробовала вообще с ней не общаться, но становилось жалко… и, да, наверное, как-то одиноко.
А ведь наши отношения еще улучшились со смерти бабушки.
Бабушка обожала меня, боготворила. Ее огорчала моя строптивость и самоуверенность, но она готова была мне простить все. Все резкие слова, брошенные в угаре тинейджерского бунта, все критические высказывания, которые имели место быть еще до пубертата. Бедная бабуля, ей было со мной действительно тяжело, ведь я была упрямой, бескомпромиссной и дотошной.
Бабушка уже в силу возраста многого не понимала из того, о чем говорили в школе. Почему-то из-за этого я считала ее дурой. О чем без экивоков и сообщала. Бабушка расстраивалась, плакала… Я нехотя просила прощения.
Что интересно, с матерью мне и в голову не приходило так себя вести.
Еще более резкая, чем я, она могла обрезать так, что на вторую попытку бунта просто не хватило бы смелости.
А бабушка была слишком доброй и слабохарактерной для серьезной борьбы со мной.
Когда она была жива, мать часто звонила ей и жаловалась на меня и мою неблагодарность. Мне иногда казалось, вообще неважно, как я себя веду, я раздражала мать по факту своего существования. Ей было трудно угодить, она цеплялась буквально ко всему.
Но когда бабушки не стало, не стало и третьего лица, разделявшего нас, фигуры, которую можно было перетянуть на ту или иную сторону. Мы оказались лицом к лицу – в фигуральном смысле. И теперь мне казалось, что мать долгие годы просто ревновала меня к бабушке – и во многом ее раздражение и недовольства объяснялись этим. Ей хотелось безраздельно властвовать надо мной, над моей душой.
Контролировать мою жизнь – ни с кем не деля это священное право.
Налейте виски, выпьем за русский!
«Куда летишь, ай брат, говори по-русски».
Русская глаза свела с ума,
Такую красотку в мире не найти.
Руслан Алиев
Нет, нельзя сказать, чтобы я плохо относилась к амбициям. Вовсе нет, я ведь сама была жутко честолюбива. Напротив, у меня вызывали удивление люди, равнодушные к социальному успеху, которые ничего не хотят добиться в этой жизни.
Скорее меня настораживали деньги. Ведь ни у меня, ни у моей семьи, ни у тех, кто входил в мое ближнее окружение, особых денег никогда не было. Пожалуй, мы не нищенствовали, но это все. Люди, умеющие зарабатывать, казались мне подозрительными. Они были совсем другими, в моей картине мира с ними было что-то не так.
А деньги у Рустама были. Об этом можно было судить по выложенным в соцсетях фотографиям: большой современный дом в деревне, квартира, оформленная во вкусе цыганского барона – пузатые кресла и диваны, обитые сверкающим «позолотой» атласом, блестящие, натертые воском паркетные полы, огромные зеркала в деревянных рамах, обилие флакончиков на столешнице с названиями известных брендов. Сам он одевался с некоторым шиком: светлые брюки и рубашки, порой даже шляпы, начищенные до блеска ботинки. Курил дорогие сигары – в общем, в его образе было какое-то пижонство, но не очень хорошего стиля. Складывалось порой ощущение, что с имеющимися деньгами он не совсем понимает, что делать, вернее, оформляет реальность вокруг себя в соответствии со своими, достаточно дикими, представлениями о роскоши.
И вот такой человек хотел со мной познакомиться… Он уже неоднократно приглашал меня на свидание, я же уклонялась, впрочем, не говоря решительное «нет».
Что же заставило меня на сей раз изменить сложившуюся стратегию?
Возможно, просто скука. Желание развеяться.
А может, где-то глубоко в душе я подумала – почему бы и нет. Чем черт не шутит? Может, из этого и выйдет что-то?
К сожалению, порывы такого рода редко приводили в моей жизни к чему-то толковому. Обычно решение о том, может ли быть с человеком что-то или нет, принималось бессознательно в первые три секунды. И, как правило, если я хотела чего-то, то хотела сразу, а если было не надо – то не надо и потом. Да, меня можно было продавить и «склонить», но – только на время. В итоге все само собой разваливалось – и довольно быстро.
Так было и с Виком. Все это изначально было моей инициативой. Это мне он был нужен. Я даже сама его первой поцеловала.
А вот с Дэном нет. Дэн захотел первым. Но с ним у меня и не было настоящей душевной близости. Только страсть. И когда она кончилась, кончилось и остальное.
Одним словом, я вовсе не походила на ту принцессу из сказки, которой положено ждать суженого-ряженого в родовом замке. Уж не знаю, почему так. То ли дело было во мне самой, то ли в эмансипации, затронувшей всех без исключения современных женщин.
Тем не менее когда Рустам пригласил меня на свидание этим вечером, я почему-то согласилась.
Встретиться мы договорились в кафе в центре города (я специально выбрала место недалеко от дома). Кафе имело общий вход с магазинчиком галантереи, и я заглянула сначала туда за колготками. Купила понравившиеся, в черную сеточку, и направилась уже непосредственно к месту назначения. Заняла место за столиком, уткнулась в принесенное официанткой меню.
Здесь было приятно и тихо, с намеком на провинциальную претенциозность. Зеркала за помпезной барной стойкой, вычурные люстры под старину, массивные столы и вполне уютные диванчики. И почти пусто – кроме меня в зале находились еще только какая-то парочка и одинокий парень, рассеянно поглощавший кофе, глядя в окно.
«Я на месте», – отписалась я в телеграмме.
Рустам подошел буквально через минуту.
Он был точно таким, как на фотографиях. Солидным. В идеально выглаженной рубашке и черных брюках со стрелками. Немолодой, но видный мужчина восточного типа. Энергичный, крупный, несколько грузный. С быстрым проницательным взглядом темных глаз и несколько недоверчивой улыбкой. И мне показалось, он меня как будто слегка стесняется.
«Боже, неужели ты тоже, – изумленно подумала я. – Все вы такие. Как бы ни были круты, при первой встрече вы всегда меня боитесь. И если не дать вам успокоиться, сбежите сломя голову».
Но я вовсе не собиралась его пугать. А потому изобразила милую улыбку и поздоровалась.
– Как ты мимо меня проскочила? – удивился мой визави. – Я тебя ждал снаружи.
– Да я зашла в магазин за колготками, – объясняю я. – А потом уже сюда.
– А, ну тогда ясно… Ты уже выбрала что-то? Давай заказывай, салат, шашлык, какой хочешь. Не стесняйся.
Я листаю меню. Шашлыка нет. Зато есть мясо – говядина под соусом. И на вид оно ничуть не хуже.
Объясняю Рустаму, чего бы мне хотелось.
– Отлично. Сейчас. Эй, девушка! – подзывает он официантку. – Два шашлыка, как здесь, – показывает он на фотографии в меню, – и пожалуйста, водички.
– Водочки? – переспрашивает та.
– Да. Ты будешь? Вино? – обращается он ко мне.
Но я качаю головой. Пить мне совсем не хочется.
– Ну, бокал, что ты.
– Ладно, – сдаюсь я. Я вовсе не против алкоголя, просто не люблю пить в незнакомой компании. Или почти незнакомой. Это ведь такое дело. Ты должен доверять собеседнику.
А я не только не доверяю, но вообще не знаю, правильно ли сделала, что пришла.
На самом деле я тоже чувствую себя как-то неловко. Возможно, именно потому что не уверена в правильности своего поведения.
Говорить нам, в общем-то, не о чем, и это напрягает.
– Ну как ты, как рисуешь? – пытается завязать беседу Рустам.
– Хорошо. Вот выставка прошла.
– Да, я видел. Ты умничка. Такая красивая. Такая талантливая.
– Ну, я стараюсь.
– Хорошо стараешься.
– Расскажи о себе, о своей семье. Где прошло твое детство? – да, это чрезвычайно банальная попытка подобраться. Но очень действенный способ понять человека, если он отвечает на вопросы.
– Зачем тебе?
– Мне хотелось бы знать.
Рустам задумывается.
– Я вырос без отца. Папа рано умер. Большая семья, нас шестеро, я самый младший. Было тяжело, очень… Мама – пенсионерка, старая уже. Было такое, что первое сентября, в школу надо идти, а у меня и штанов нет. Я воспитал себя сам. С двенадцати лет работал.
– Кем?
– Ну, как ребята сейчас листочки раздают, так и я. Одно, другое. Мечтал стать врачом. Книжки по ночам читал с фонариком. Не вышло. Время было не то. Пошел на стройку и вот до сих пор…
– Тебе нравится?
– Конечно. Ты же любишь рисовать?
– У тебя есть друзья?
Рустам усмехается.
– Я всех отодвинул. Были, решил, хватит. Как и подруги, редко когда долго хорошо дружат. Так и мне все надоели.
– А братья, сестры?
– Они на родине, у них свои семьи. Все взрослые.
– Но ты же общаешься с ними?
– Конечно. А ты со своими разве нет?
– У меня нет ни братьев, ни сестер.
– А с родителями? Ты же одна у них.
Я пожимаю плечами.
– Ну, они есть.
– Отношения холодные?
– Не знаю, как сказать. Мы всегда были сами по себе.
– Странно.
– Так бывает.
Приносят мясо. Оно хорошо, действительно хорошо.
Рустам прекрасно видит, что я пытаюсь его прощупать, но он не против и дает ровно столько информации, сколько хочет. Прощупывает меня и он, и я понимаю, что ему нравлюсь. И, конечно, уже давно.
– Иди ко мне поближе, – пытается он подсадить меня на свой диван. И я принужденно соглашаюсь, но в этом нет для меня интереса.
Мне кажется, я поняла его. Нищее детство, бьющая в глаза варварская роскошь в зрелости как компенсация. Независимость и самостоятельность, широта души. Показная щедрость. И страх – его пугает мой возраст. Пугает, что я уйду.
Я доедаю салат, пью вино, чай. Мы пытаемся разговаривать. Это сложно – у нас все совсем разное.
– Зайдем ко мне, я тебе фотографии покажу? Родные места, – предлагает Рустам.
– Нет, – качаю я головой. – Конечно, нет.
– Ты меня боишься?
– В какой-то степени.
– Какая строгая. Тогда пойдем в магазин, купим тебе подарков.
– Зачем еще?
– Потому что я рад тебя увидеть наконец-то.
Я даю себя уговорить. И, расплатившись, мы действительно идем в ближайший сетевой магазин, и Рустам набирает мне полную корзину фруктов (в том, как он осматривает мандарины и памело, виден профессионализм зеленщика) и конфет. Я добавляю два йогурта.
– Что ты стесняешься, бери что хочешь.
– Спасибо большое.
Я действительно тронута. Редко кто думает о том, чтобы купить мне еды.
Такое поведение не может не вызывать определенное умиление.
К тому же в холодильнике почти пусто.
Мы выходим на улицу.
– Точно не хочешь ко мне зайти? Такая хорошая… Все при тебе. И тут, и тут, – он показывает где. – И такая строгая. Как учительница. Где еще я такую красотку найду?
– Точно нет.
– Но я же тебя еще увижу?
– Наверное. Вызови мне такси.
Рустам отдает мне два объемных пакета с продуктами и набирает адрес в приложении на смартфоне. Начинает накрапывать дождь.
Меня вдруг захлестывает благодарность.
– Спасибо тебе, – искренне говорю я.
– Да я еще ничего не сделал, – кажется, всерьез удивляется Рустам.
– Нет. Мне очень приятно. Правда.
И это действительно так. Я обнимаю его на прощанье и разрешаю себя поцеловать. Подъезжает машина. Дождь усиливается. Тяжелые капли падают на драповое пальто, на мои волосы, на полиэтиленовые пакеты.
– Я пойду. Рада была увидеться. Не скучай.
Хочу я мужика, но сорок плюс,
А на малолетку я больше не поведусь.
Хочу я мужика, чтоб решал мои проблемы,
Надоело быть мамочкой, хочу быть королевой.
Nodahsa
Небольшой отрыв от реальности, который я себе организовала, явно способствовал не только увеличению продуктивности творческой деятельности, но и стабилизации моей нервной системы. Иногда ей требовались такие паузы.
Вообще мир имеет свойство слишком сильно на меня влиять. Во время учебы в академии я, например, старалась реже появляться в библиотеке, потому что одна из сотрудниц как-то пренебрежительно, с неприязнью общалась со студентами. Авторитарные, строгие преподаватели нагоняли на меня страх. От стука каблуков одной из доцентш я даже вздрагивала.
И как это ни парадоксально, легко обижаясь, я не менее легко обижала сама. Возбудимая нервная система подразумевала вспыльчивость. В дискуссиях я легко впадала в раж, а в ссоре – в ярость. И многие, менее энергичные сверстники, очевидно, боялись уже меня – потому что неизвестно было, чего ожидать. Под настроение я могла быть милой и сладкой, как сахарная вата, и также едкой, как щелочь, и неприятной, как пробуждение по будильнику.
К примеру, если во время коллективного проекта кто-то из участников халтурил и не выполнял свою часть работы как должно, в выражениях я не стеснялась (а руководить подобными проектами почему-то приходилось мне, наряду с другими активными и «подающими надежды» студентами). Меня саму даже сравнивали с известными академическими ведьмами. Причем происходило это неоднократно, так что, вероятно, в подобных сравнениях была своя правда. И многие меня откровенно не любили – отчасти из зависти, отчасти из-за характера.
Может быть, пойди я по преподавательской стезе, со временем, лет через двадцать, я сама бы сделалась похожей на одну из тех, кто в восемнадцать наводил на меня ужас. Однако, к добру или к худу, такая дорога никогда меня не влекла. Прежде всего, потому что писать самой было гораздо интереснее, чем учить этому других.
Доделав сувенирные деревяшки, я сдала их в магазин (где моим изделиям были очень рады) и впервые за эти дни вышла в сеть. Там меня ждало около тридцати чатов с новыми сообщениями. Но при этом ничего важного – просто людям было интересно, куда я пропала. Ни Вик, ни Дэн ни писали. Я автоматически отметила отсутствие каких-либо действий с их стороны – и удивилась тому, что, оказывается, все это время бессознательно ждала, что тот или другой проявится.
С выставки и кофе прошло уже много времени, и тело напоминало об отсутствии ласки. Проклятое тело, как я порой ненавидела эту зависимость от чужих рук. И мечтала о том, чтобы все это просто выключить – и не нуждаться ни в ком. Быть совсем независимой, свободной, свободной…
Тем не менее давать знать о себе бывшим я не стала. Потому что я действительно не хотела их видеть. И не желала усложнять то, что и так было бесконечно сложным.
Зато написал Рустам. Один из поклонников, давно добивавшихся внимания. Я холодно отвечала на его знаки внимания, прежде всего из-за того, что он был намного старше, да и общих интересов у нас просто не было. Вообще я старалась не ввязываться в отношения с большой разницей в возрасте, они меня пугали.
Исключением была опять-таки случившаяся в годы учебы влюбленность в одного из профессоров. Артемий Викторович преподавал художникам социологию. Ему было что-то за сорок, и, кажется, он был женат и с детьми. Тем не менее он так хорошо, увлеченно читал лекции, что его на его занятиях я сидела исключительно за первой партой, слушала, открыв рот, и самозабвенно конспектировала каждое слово, включая междометия. А в те десять минут, что в конце пары он отводил на вопросы, просто засыпала его ими – и так делала, надо признаться, почти я одна. Многие студенты считали его странным, из-за неряшливого, совершенно не модного свитера, нечищенных ботинок, порезов от неаккуратного бритья. Все это вызывало косые взгляды и даже смешки, я же, признаться, вовсе не замечала подобных мелочей, они полностью перекрывались в моих глазах обаянием личности и каким-то нереальным, нечеловеческим интеллектом. Артемий Викторович определенно был одним из самых умных людей, встреченных мной в жизни.
Только после выпуска, уже с дипломом на руках, я вдруг как-то осознала, что интерес был взаимным, потому что лекции Артемий Викторович читал, глядя мне в глаза (больше он ни на кого так не смотрел) и даже стоя у моей парты. Заметно это было не мне одной (я в своем угаре почти не придавала этому значения). Одна из ленивых и бестолковых однокурсниц даже отказывалась со мной сидеть на социологии, мотивируя это тем, что «ты его манишь»…
А однажды после лекции профессор предложил мне взять в библиотеке какую-то книжку (убей не помню, что это было) и на следующем занятии спросил, прислушалась ли я к его совету. Я же, замученная текущей работой, совсем забыла про его слова, в чем со стыдом и призналась. Помню это обжигающее чувство неловкости, муки из-за неоправданных ожиданий. Просто сквозь землю провалиться хотелось.
«Ну ничего, ничего», – как будто утешая, сказал преподаватель, но его слова имели на меня мало действия. Я не любила подводить своих учителей. Наверно, причиной был природный перфекционизм, если я что-то делала, то отдавалась этому целиком, учеба не была исключением.
А может быть, если бы тогда я взяла ту книжку, мы стали бы общаться и…
Воображением принималось рисовать что-то несусветное. Ничего не могло быть, у меня был Вик, у профессора – семья… И все же, несмотря на это, какое-то чувство сожаления, непонятной тоски по несбывшемуся, до сих жило в моей душе.
Курс социологии закончился, и Артемий Викторович исчез из моей жизни. Потом, после выпуска, мы как-то случайно встретились на улице, обменялись обычными в таких случаях вопросами, неловко посмотрели друг на друга… и все.
Я старалась не давать волю многочисленным «а если бы», живущим в моей душе.
Ведь история не знает сослагательного наклонения, не так ли?
Это был единственный случай влюбленности во взрослого мужчину на моей памяти.
Тот же, кто добивался моего внимания сейчас, вовсе не был талантливым, увлеченным преподавателем. Он был хитрым, расчетливым азиатом, руководящем на стройке выходцами из Средней Азии. С двумя небольшими бизнесами (магазинчик овощей и фруктов и магазин бижутерии), почти взрослым сыном, живущем с бывшей женой и кучей амбиций.
Спешу поделиться радостной новостью - роман "Башня из слоновой кости" был опубликован издательством "Автограф".
О чем эта книга, жанр, целевая аудитория?
Жанр - фэнтези, но такое в целом очень игровое, условное, как сказка. О чем - об одиночестве, поиске семьи, о прощении, о мести. И о предательстве. Как и многие мои книги, написан он не в целевую аудиторию, а скорее для себя. Это моя собственная игра в бирюльки.))
Обложку нарисовала замечательная художница Елена Козина.
И жить нам приходится снова,
Себе не найдя двойников.
«Пикник»
Впечатлений от обнимашко-пати, посиделок с родственниками и вообще встреч последних дней оказалось так много, что я провела три дня дома, вообще не выходя на улицу. Вспомнилось, как однажды Митька, слушая мое нытье об усталости от общения, сказал: «Черт, но в твоей жизни действительно слишком много людей. Сделай так, чтобы стало мало. Возьми паузу – хотя бы на какое-то время».
И держа в голове совет старого товарища, я отключила телефон и заперлась в квартире. Признаюсь, было сложно. Сложно не выйти из комнаты и не совершить ошибку. Хотя, по правде, тянуло как-то даже не на улицу, а в интернет.
Что там в мире происходит?
При этом абстрактное знание о том, что в мире вряд ли происходит что-то хорошее, помогало мало. С другой стороны, и мировой революции, случись она вдруг, было бы сложно не заметить.
Руки тянулись включить ноут, открыть браузер и начать поглощать информацию, которая не принесла бы в мою жизнь ничего полезного.
Кажется, это явление получило название «думскроллинг».
Сидеть и жрать новости, на которые ты не можешь повлиять и которые только усиливают панику.
Да-да, конечно. Это именно то, что требуется для вдохновения.
А еще очень не хватало соцсетей, общения с другими художниками и ребятами по книжному клубу. Не хватало чужих голосов в голове, ставших привычными, родными. Мнения людей, большую часть из которых ты вообще-то никогда в жизни не видел, но которые тем не менее думают и видят мир так, что это действительно расширяет горизонты, позволяет взглянуть на многие вещи под новым углом…
Лайков и похвал почитателей, чего скрывать, тоже не хватало.
Вообще самые яростные экстраверты – это, наверное, самые не уверенные в жизни невротики. Те, кто вечно пытаются заполнить пустоту в душе другими людьми – чужим вниманием, чужими эмоциями, чужими желаниями.
Это те, кто не очень-то понимает самих себя и того, что им надо.
Впрочем, я не считала себя совсем уж невротической личностью. В меру. Для творческого человека я была еще на удивление уравновешенной.
Тем не менее, несмотря на синдром отмены, я как-то умудрилась найти в себе силы выйти из сети на трое суток и просто работать. Не отвлекаясь.
Результаты моего ухода во внутреннюю Монголию и отказа от виртуальной жизни оказались превосходными. Я сделала столько, сколько давно уже не получалось. В основном это были сувениры для туристов, однако удалось создать и полноценную работу – картину, за которую мне было не стыдно.
Это был городской пейзаж. Разливающаяся холодными лужами осень, по-питерски хмурое небо, деревья, уже готовящиеся скинуть листву. Тяжелые каменные дома старой застройки, грозно нависающие над прохожими, словно стремящиеся растоптать, раздавить. Атмосфера чем-то напоминала иллюстрации Александра Бенуа к «Медному всаднику». Только не Всадник служил угрозой, а сам город…
Угрозой – но кому?
Да все тому же маленькому человечку, испуганной, дрожащей твари, натужно цепляющейся за привычные канатики отжившего быта. За так называемые традиционные ценности, за стабильность и уверенность в завтрашнем дне, ипотечные квадратные метры, иллюзии саморазвития и личностного роста.
Иллюзии – потому что в летящем к чертям мире все это не стоило ровным счетом ничего. В любой момент могло накрыться медным тазом.
И любой, абсолютно любой, как в Средние века, должен был быть готов столкнуться с бездной.
С собственной и чужой смертностью. Возможностью утратить здоровье, дом, заработок, пресловутую финансовую стабильность.
Что-то мне подсказывало: этот мир вряд ли ждет что-то хорошее. Светлое завтра наступит еще очень нескоро.
Но так прекрасна была осень, но так глубоко, так торжественно-печально было небо, так угрюмо смотрели дома в лица испуганным прохожим!..
Среди них выделялся молодой человек в пальто, спокойно курящий на автобусной остановке. Он выглядел так, словно не чувствует тревоги, разлитой в воздухе, словно она его совсем не касается. Все это не про него, вовсе не относится к делу.
Он возник сам по себе, так, что его появления я не заметила, и только потом, рассматривая картину, недоуменно подумала: да откуда ж ты взялся? Ты кто такой?
А потом осознала: да это же тот парень, которого я приметила, когда шла пешком от Ляськи. Да, тот самый понравившийся мне молодой человек, про которого я подумала, что познакомься мы, ему придется об этом пожалеть.
На какой крючок поймало его мое подсознание, почему решило посадить на бумагу? Не знаю.
Только он казался таким уверенным. Таким четко понимающим, что происходит вокруг.
Да-да, мечта перепуганной женщины. Мечта травмированного зайца.
А еще, пересматривая получившуюся работу, я вдруг увидела, осознала, как это похоже на то, что мне показывал Вик, и меня мороз продрал по коже. Тоже осень и город, и листья, и старый центр, и кажется, та же тревога и те же проблемы.
Та же неуверенность в сегодняшнем дне, пессимизм, отсутствие надежд на счастливое завтра.
И очарование упадка… Пойманное в моменте обаяние угасания…
Сладкий яд декаданса.
Прелесть осени – горькое послевкусие нашего разрыва, чудовищная химия расставания.
Моя картина была отражением его работ, отложенной репликой, творческим ответом, художественной парафразой.
И это было ужасно и отвратительно, это означало, что симбиоз, которому давно уже должен был прийти конец, каким-то образом еще существовал, жил, дышал, вибрировал в информационном поле. Я почему-то продолжала чувствовать, чем он живет, о чем думает, о чем пишет, хотя все это давно уже должно было стать неважным.
Отжившим.
Утратившим актуальность.
Но я смотрела на свою работу и видела в ней работы Вика, и видела свою ревность, и стремление превзойти, сделать лучше, круче, сделать так, как он бы не смог. И видела, что у меня получилось не то что лучше, просто как-то иначе, с другого угла – но при этом все на ту же тему.
И эту тему поднял он, а я иду за ней, повторяю, повторяю, кручу и верчу его мысли, отражаю его поиски…
Зачем, почему…
Разве могла я дать ответ на этот вопрос.
Но не глупо ли все время отражать и следовать за кем-то, кто, скорее всего, менее талантлив. Да, я искренне считала, что как художник превосхожу его, что могу больше. И три моих персональных выставки – это только начало.
Тогда зачем он был мне нужен?
Зачем я все время думала о нем – даже рисуя?
Зачем ты ходишь пить кофе с бывшими, Нета?
Ну разве не дурочка?