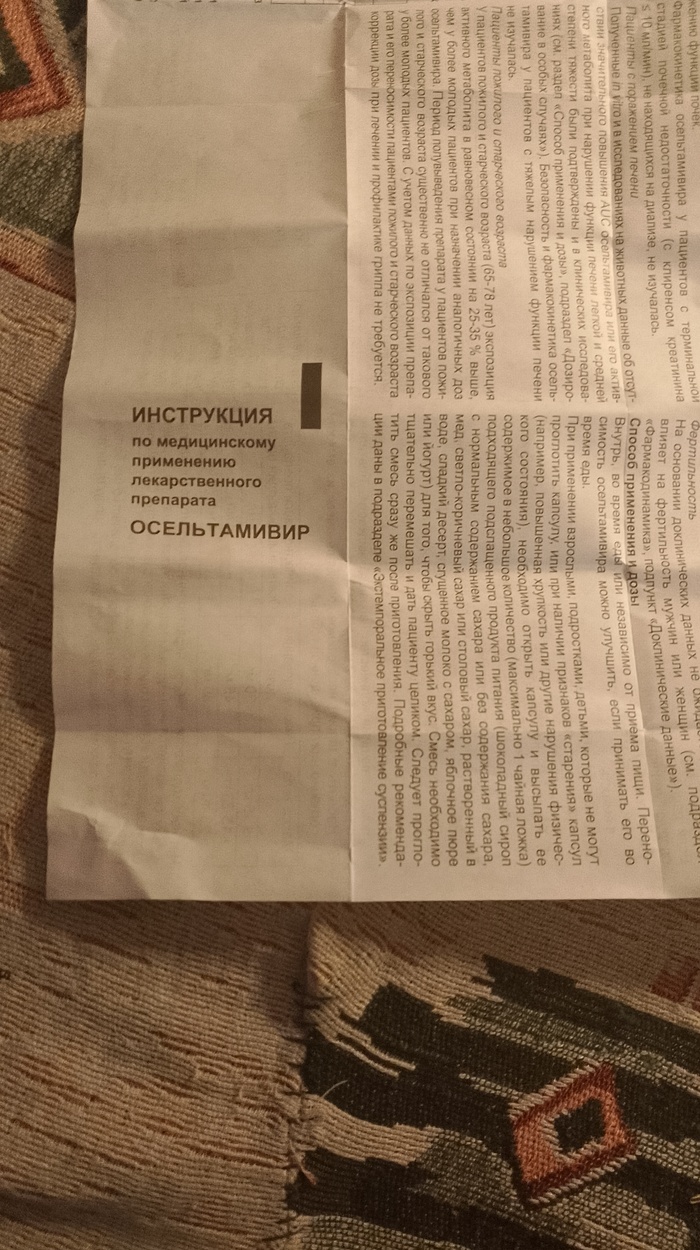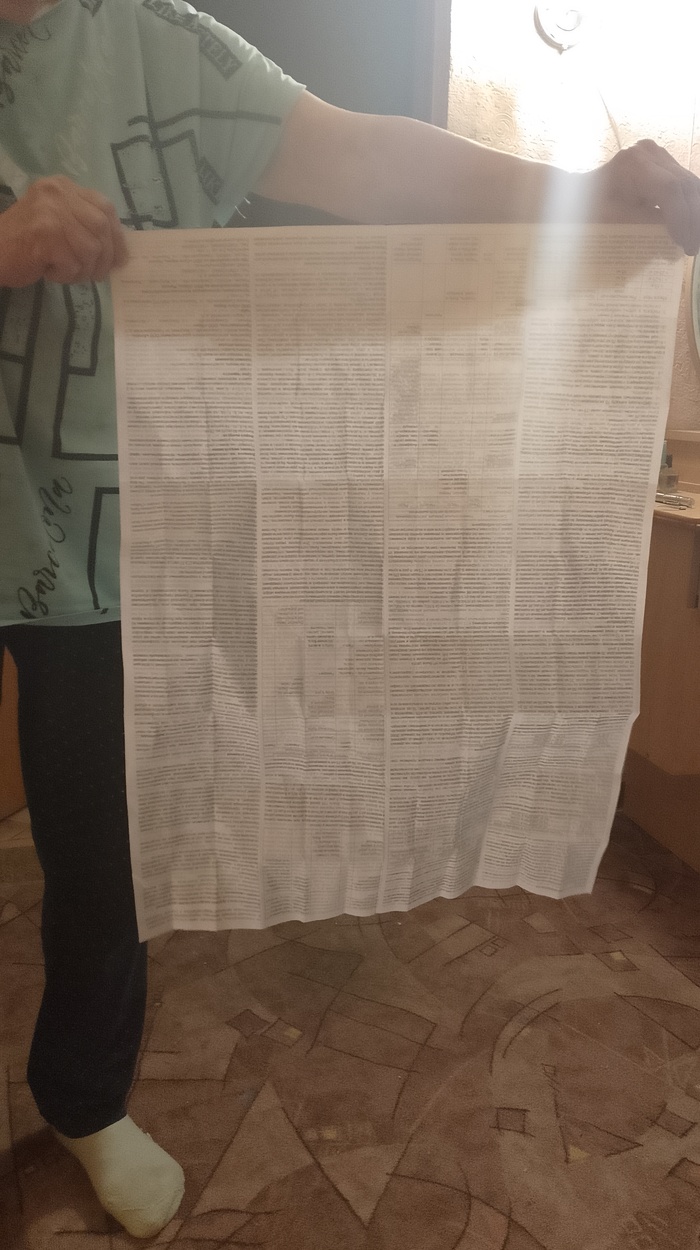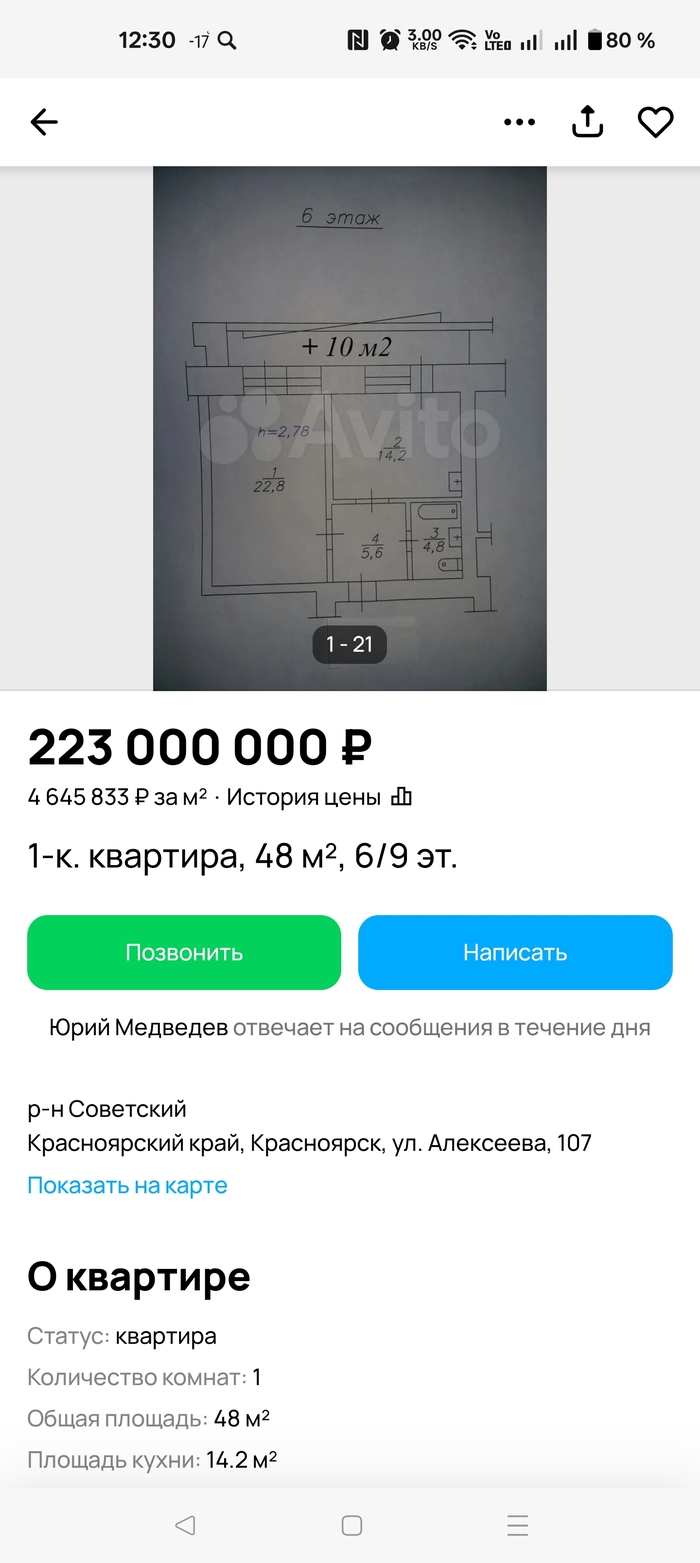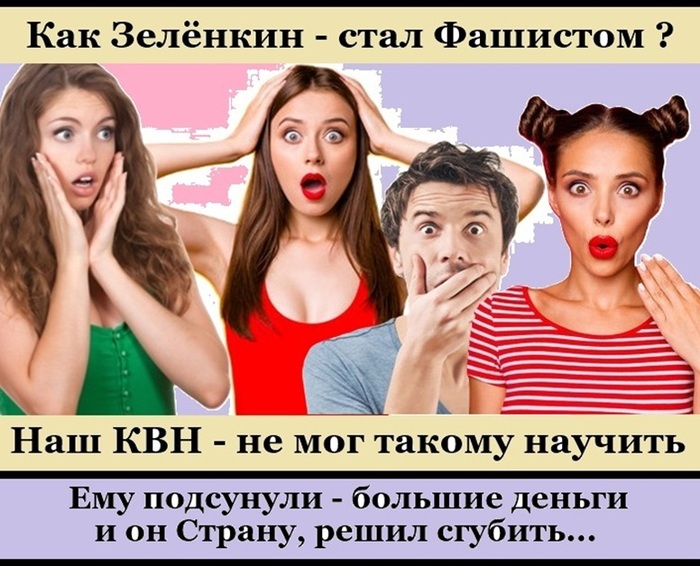Немец пытался отравить свою дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты
В Баварии сейчас идет процесс, от которого у нормального человека волосы дыбом встают. 28-летний парень, афганец по имени Элиас — или как там его полностью, Г. вроде, — сидит на скамье подсудимых, и ему вменяют покушение на убийство собственной трехлетней крохи.
Представьте: человек несколько недель роется в интернете, выискивая, как именно действует эта дрянь — фосфид алюминия, тот самый яд от мышей и крыс, который даже в крошечной дозе может отправить на тот свет взрослого. А потом берет и засовывает ребенку в рот запечатанный пакетик с 560 миллиграммами этой гадости. Зачем? Чтобы не платить алименты. Просто. Не хотел раскошеливаться на содержание дочери после расставания с матерью. Вот такая вот "экономия" по-отцовски.
Девочке, бедняжке, стало худо почти сразу — мать вовремя среагировала, вызвала "скорую", врачи вытащили ее буквально с того света. Спасли. А отец? Он, конечно, все отрицает напрочь. Ни сном ни духом, мол. Ни яда не подсовывал, ни планов не вынашивал.
Я вот сижу и думаю: как вообще до такого можно дойти? Это же не просто злость, это какая-то ледяная расчетливость — недели планировать смерть собственного ребенка из-за денег. В наше время, когда кругом все о родительских правах, о равенстве, о поддержке семей — и вдруг такое. Напоминает те жуткие истории из криминальных хроник, только здесь жертва — трехлетка, которая даже понять ничего не успела.
По данным Bild (они первыми это раскопали и расписали в деталях), процесс идет в Ландсхуте, региональный суд. Следствие уверено: мотив чисто корыстный, алименты. А обвиняемый уперся рогом — невиновен и точка.
Иногда читаешь такое и просто молчишь. Потому что слов нет. Только оторопь и вопрос: что в голове у такого "отца" творится? И сколько еще детей по миру страдают от подобного... эгоизма? Жуть.