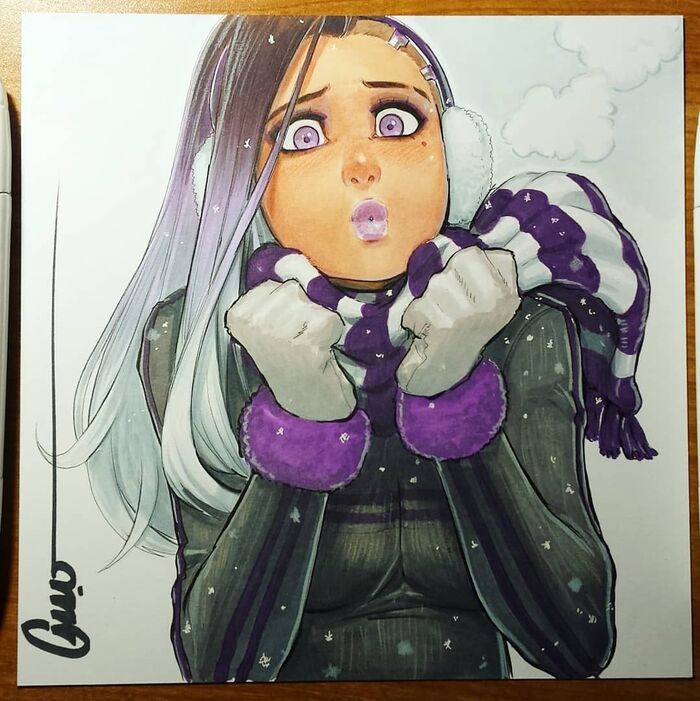Под куполом бездны...
Не было в мире места безлюднее и печальнее, чем маяк на утёсе Кричащих Камней. Стоял он чёрным зубом, вонзившимся в пульсирующее тело моря, а я, Авель Уоррен, был его новым смотрителем. Предшественник мой, старик Эзра, исчез, оставив лишь дневник, испещрённый безумными каракулями, и холодную плиту на кухне, от которой веяло запахом низкого прилива.
Первые недели были томными, убаюканными рёвом волн и плачем ветра в щелях. Но затем море изменилось. Оно не штормило, нет. Оно затихало до стеклянной глади, и в этой тишине начинало… пульсировать. Медленно, ритмично, как спящее чудовище под тонкой пеленой. Вода темнела, пока не становилась цвета венозной крови, а в лунные ночи на её поверхности проступали жирные, маслянистые разводы, словно гигантские стрии на коже планеты.
Бессонница грызла моё сознание, и в ней я начал видеть. Не сны — явы. Сквозь стёкла фонаря я замечал в багровых глубинах движение. Не рыб, не тюленей. Это были тени, слишком крупные, слишком извивающиеся, чтобы принадлежать чему-то земному. Они тянулись к основанию утёса, и с каждым днём их контуры становились чётче. Я различал намёки на щупальцевидные придатки, на бугристости цилиндрических тел, на множества лишённых век глаз, взиравших вверх, на свет, на меня.
А потом пришли «приливы». Не воды, а плоть.
В первую ночь я проснулся от звука — влажного, чавкающего шума, доносящегося снаружи. Осветив прожектором скалы у подножия, я застыл. Камни были усеяны чем-то студенистым, полупрозрачным. Это была органика, но не знакомая. Кусочки ткани, похожие на печень, но с прожилками фосфоресцирующего жёлтого. Лоскуты, напоминающие лёгкое, но дышащие самостоятельно, сжимаясь и разжимаясь. Всё это источало сладковато-гнилостный запах, от которого кружилась голова. И кровь. Её было море. Она не текла из этих кусков — они, казалось, были ею сотканы, сочились ею, алая и чёрная, смешиваясь с морской водой, окрашивая всю бухту в кошмарный багрянец.
С ужасом я понял: это не было убийством. Это было линькой. Что-то колоссальное, живущее в пучине под утёсом, сбрасывало старые слои своей бесконечной, чудовищной плоти. И эти обрывки сознания, эти клочья забытых форм, были ещё живы. Они шевелились, слипались, пытались приползти друг к другу.
На вторую ночь «прилив» был сильнее. Сгустки покрыли скалы полностью, забрались по стенам маяка почти до половины высоты. Сквозь рев волн (море снова стало неистовым, будто очищаясь после осквернения) я слышал их. Не звуки, а вибрации в самом центре утёса, в металле башни. Они складывались в подобие мысли, тяжёлой, как свинец, и древней, как сами звёзды:
«П р о с н у л с я… И з г о н я е т с т а р у ю ш к у р у… Н а ш а к р о в ь — к л е й… Н а ш а п л о т ь — п о р о г…»
Кровь текла ручьями. Она струилась по желобкам в камне, собиралась в тёмные зеркальные лужицы, в которых отражались не звёзды, а те самые движущиеся тени из глубин. Воздух стал густым от её запаха — медного, солёного, с примесью того же сладкого тления. Я задыхался. Моя собственная кровь в жилах стыла и бешено пульсировала, будто откликаясь на гигантский, мерзкий ритм из бездны.
В ночь апогея луна стала багровой. Море отступило, обнажив дно — но не песок и не гальку. Оно обнажило Её. Тварь не имела формы, которую мог бы удержать человеческий разум. Это была гора дёргающейся, переливающейся плоти, усыпанная глазами, ртами и не то щупальцами, не то венами. Она покрывала всё дно залива, уходя в чёрную даль. Её тело было испещрено зияющими ранами, из которых сочились реки той самой чёрной и алой крови, смешанной с лимфой звёздного цвета. Это не было ужасом, созданным человеком. Это было преображение. Сбрасывание реальности, как змея сбрасывает кожу.
И из каждой раны, из каждого сочащегося разлома в её теле, вытягивались новые, чудовищные члены, прощупывали воду, а глаза — все до одного — уставились на маяк. На меня.
Башня содрогалась. По стенам поползли трещины, и из них сочилась не вода, а тёплая, солёная жидкость. Кровь. Маяк истекал ею, будто живой организм, пронизанный общей с чудовищем системой артерий. Фонарь погас, погрузив всё во тьму, нарушаемую лишь фосфоресценцией твари и кровавым свечением небес.
Я упал на колени в луже того, что сочилось из стен. Мои руки были по локоть в алом. Дыхание стало хриплым, горло пересохло. Я чувствовал, как эта посторонняя кровь впитывается через поры, как её древняя память, её безумная космическая тоска просачивается в моё существо.
Я не кричал. Крик — это звук для имеющих уши. То, что я чувствовал, было тише крика и ужаснее его. Это было понимание. Понимание того, что кровь — не жизнь. Это всего лишь чернила, которыми написана книга плоти. А та, что подо мной, переписывала саму реальность. И я, Авель Уоррен, последний смотритель маяка на утёсе Кричащих Камней, был всего лишь кляксой, случайной буквой на полях её бесконечной, кошмарной страницы.
А на рассвете, когда солнце взошло тусклым и медным над кровавым морем, первый луч упал на башню. И стены её, некогда серые, навсегда остались окрашенными в тонкий, невыводимый оттенок запёкшейся крови.