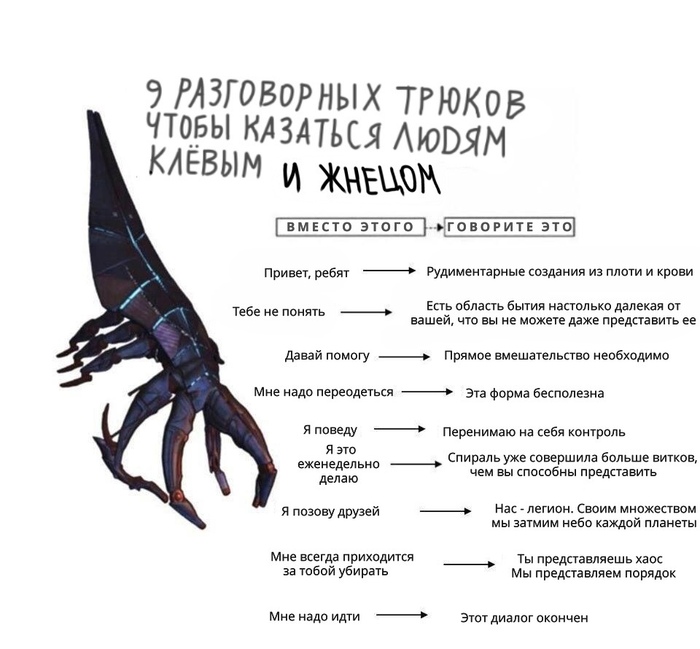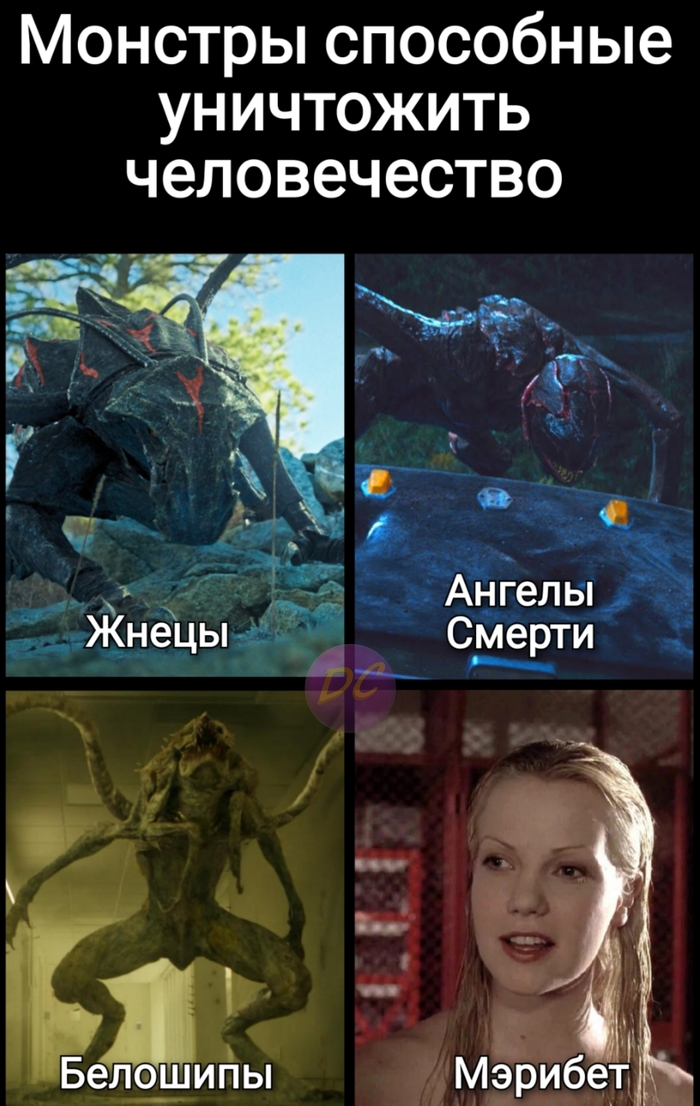Матка жнецов ходит по арене. Что делать?
Здравствуйте, уважаемые! Помогите советом! Матка ходит по арене и не хочет идти в свою норку.
Муравьи у меня впервые, messor structor, появились чуть больше месяца назад, изначально в колонии было около 30 рабочих. Девчонки быстро переселились в формикарий, заняли 2 нижних этажа (остальные пока закрыты), перетаскали на первый еду, второй заняла матка с няньками и приплодом. Вроде всё шло хорошо, появлялись новые яйца (однажды мне даже повезло лично увидеть момент "родов"), росли личинки. На днях увидела, что в колонии появилась крупная, переходная особа. И ещё 2 личинки прям жирненькие, не знаю, показатель ли это, но предполагаю, что из них тоже родятся переходные особи. О солдатах, имхо, мечтать ещё рано. Муравьи ведут себя активно, чо-то копошатся, суетятся, тусят. Всё как обычно.
Но позавчера я заметила, что матка ходит по арене. Сначала мне это показалось прикольным: "О! Её Величество променад устраивает." Но когда вчера вечером я снова увидела её на арене, меня это обеспокоило, и пошла я в гугл. Результат гугления меня не обрадовал. По нему я сделала вывод, что матка у жнецов может иногда выходить на арену без особых на то причин, но если она тусит там постоянно, то это беда. Нашла пост на Пикабе о пережившей стресс матке, которая не хотела идти в норку, рабочие затаскивали её туда за усы, а на следующий день она откинула лапки. Стала наблюдать... Ходит и ходит по арене. Залезла в поилку. Ну, думаю, может за этим и пришла. А сегодня утром я увидела, как рабочие тащат её за усы в норы...
Сейчас она сидит на первом этаже, рядом с запасом еды. На второй, где она жила до этого, и где у них детский сад с яйцами и личинками, не идёт.
Об условиях и проблемах.
Увлажнение формикария через пробирку, примерно раз в неделю воды становится мало, и я её меняю. Видно, что увлажняющая губка в районе нижних этажей влажная, а наверху сухая. Муравьи постоянно сидят толпой на стене с прорезями к увлажняющий губке.
Песка на арене пока нет, потому что хотела сначала приучить девочек использовать мусорку.
Подогрева никакого тоже нет, даже и не планировала. Во-первых, мы теплолюбивые, в квартире всегда не меньше 23°, а в комнате, где муравьи, чаще и больше, потому что там двое детей с двумя работающими компами. Во-вторых, по всем признакам колония хорошо развивалась и муравьям в целом было комфортно. Хотя последние несколько дней я активно проветриваю квартиру. В связи с погодой дома стало откровенно душно и жарко.
По совету из интернетов на арене стоит мисочка с ваткой, куда я ежедневно наливаю воду. Муравьям это вроде нравится, частенько они устраивают там массовую тусу. На высохшей ватке тоже бывает любят собраться, подёргать волокна ватки и отнести их потом в мусор.
С белковым кормом беда. Уже поняла, что гаммарус они не едят (хотя всё ещё делаю попытки подбрасывать им его за неимением лучшего). Смотрю на жидкий корм на вб, хочу попробовать, но комменты вызывают сомнения. На многих сайтах пишут, что можно жнецам давать яичный белок или куриную грудку, на других сайтах это не рекомендуется. Но неделю или две назад я решила рискнуть и дала им кусочек куриного белка. Совсем маленький, примерно 2×2мм. Они его сразу утащили к себе. Это единственный момент, который вызывает у меня беспокойство. Вдруг они его не съели, и он где-то там гниёт в норе? Но ни плесени, ничего такого я не вижу. Да и остальные мураши спокойно тусят в норках, как прежде, только матка шляется.
За 1,5 месяца, сколько у меня формикарий, погибло 3 муравья, причины мне не известны. Первые два подряд, может даже в один день, примерно через неделю после заселения в норки. Третий потом, спустя ещё где-то 2 недели.
Вроде всё рассказала, что можно. Опытные мирмикиперы, помогите советом, что может быть не так, как можно помочь? Или может я зря переживаю? Очень не хочется потерять колонию.
Пс. Пока писала, матка успела сходить наверх в детскую, где жила до этого. Сейчас снова на первом этаже нор, тычется в стены, как будто ищет выход((
Аж мурашки по коже
Контроль
Ха(р)мониЯ
Из сумки доносится недовольное попискивание и шебуршание. Не возьмусь переводить дословно, но в общих чертах мне, всем, кто участвовал в создании этой *** сумки, и в целом несправедливому миру желают, чтоб колесо наматывало шерсть, а хозяин каждый день выгребал запасы из домика. Да, хомяки только кажутся милыми созданиями, на самом деле дьяволы в меху с чёрными глазками-бусинками, которые видят тебя насквозь. Комочки ненависти, если будет угодно. Ритмичный взмах вверх, полёт вниз, и снова вверх, вниз. Качельки.
Конечно, я не всегда был так чёрств к ним, поначалу каждого в отдельной клетке носил с тысячей извинений за неудобства, пока не понял, что мрут они так часто, что в хомячий рай очередь выстроилась, по номеркам туда входят. Двое родились — один входит, популяцию так уменьшают, стимулируют… Только я до сих пор не понял, кого и на что? Однажды я осознал, что в моём доме уже хомяков двести и номерки у них отнюдь не двузначные. Там-то они, может, и снизили что-то, а вот у меня не дом, а место передержки очередников. Тогда-то я понял, что они не милые, а бесы, страшные создания. Да и устал по одному таскать, десятка два, как яблоки, собираю в шоппер и тащу домой. А то что раскачиваю, так это элемент воспитания, им только дай слабину, они меня выгонят и устроят хомячий бунт. Они после такого шёлковые становятся, чинно крутят колёсики, жуют семечки с морковкой, благо в посмертии за ними не нужно убирать. А ещё они чудесные охранники, лучше любого пса, так отмудохают непрошенных гостей, что любо-дорого. Правда иногда и на прошенных наезжают, но это мелочи. Все мы тут то ли мёртвые, то ли неживые, то ли бессмертные. Обидно — не более.
Ловким движением засыпаю новичков в отдельную клетку, на свободный выгул им пока рано, они ещё не осознались. Разбегутся, а мне ползай по кустам — ищи этих засранцев. Знаем, проходили уже. Щёлкаю дверцей и отскакиваю. Десятки мелких зубок вгрызаются в клетку, лапки тянут прутья в разные стороны, чисто хомячьи маты перемежаются человеческими словечками. Эти явно не из интеллигентных семей, хотя большинство из живого уголка садика, видимо, это не самое спокойное место у людей.
На них нельзя злиться, мне даже немного жаль этих мелких комков. Жизнь у них короткая и опасная, а потому и религия сложилась своеобразная, обещающая каждому невообразимое посмертие, причём мгновенное. А в реальности у меня уже год грызёт скатерть Мамон с номерком 2.099. Есть у меня, правда, подозрения, что он сильно нагрешил, потому как у остальных дальше 300 не заходит. А может, имя партии не нравится, кто знает.
Такие они милые, не могу, лицо судорогой в форме улыбки сводит. Эх, всё-таки есть и плюсы в моём должностном понижении до хомячьего жнеца. Ловко уворачиваюсь от знакомого броска пыльно-серого комка агрессии и глубоко запрятанной любви и привязанности, почти уверен, что они есть, и подлавливаю Татухамона двумя пальцами под передние лапки, так есть шанс остаться с пальцами. Главное — не показывать улыбки и слабости.
— Ну-с, Хамончик мой любимый, что тут у тебя, — на исковерканное имя он зло дёргает задними лапками. А я смотрю поверх шёрстки на голове. — О, поздравляю, заслуженная девятка, можно тебя уже к воротам выкидывать, там досидишь оставшееся.
Проследив, чтобы старички начали объяснять правду жизни мелким, чуть не в припрыжку спешу к воротам. Хамон мне как друг, хоть сам этого не признаёт. Его долго на моих глазах реанимировала чудесная девушка-ветеринар Маруся, но хомячьи лапки склеились, и вот мы уже два года тусим вместе. Та девушка мне знатно облегчает жизнь, спасая тваринок на моём районе, можно сказать, божья благодать, пока у других усыпляют без надобности, изверги.
А Хамон хоть и хамовитый, а в обиду не даёт, сколько уже было жестоко погрызено дураков, что пытались меня подколоть моим нынешним положением или устроить подлянку, выпустив подопечных. До сих пор вздрагиваю, как вспоминаю один из случаев. Захожу в дом, а там под инфернальное рычание Татухамона, тогда даже страшно было имя сократить-то, хомяки, не смотря на открытые захожими дураками клетки, чинно раскладывали зёрнышки по виду, цвету и размеру. А те самые дураки не смели слезть со шкафов, клацая зубами от страха. Тогда-то я и проникся к Хамончику уважением.
И вот теперь ему наконец пора, мой малыш, слезинка катится по щеке. Последний раз в шутку замахиваюсь, буду хочу с ускорением доставить его воздушным путём.
— Не смей меня бросать, *** драное, *** калечное», — ох, почти как признание в любви.
— Не бзди, шучу я, ну что ж, прощай, дружище. Оторвись там на полную и не смей рождаться раньше, чем через сотню-другую лет.
Татухамончик не удостаивает меня ответом и убегает вперёд, шустро перебирая мелкими лапками.
А в ноге так и щемит, так и щемит. Что? В сердце же щемить должно, да и не у меня.
— Чёрт, — неподходящее ругательство вырывается само собой.
В коленку вцепился и повис хорёк, ещё и раскачивается зараза. Оторвав его от своей любимой коленки, за хвост поднимаю к глазам.
— Что вы за твари такие, лишь бы кусаться, язык на что дан? — смачный лизь в нос вместо ответа, ладно, паршивец, знает, как задобрить.
Милостиво опускаю на землю и сам сажусь рядом, ожидая, что же потребовало таких экстренных мер, как продырявливание меня.
— Муся-муся-муся, — хорёк суматошно вьётся, крутясь на месте, и невнятно повторяет одно и то же.
— Да замри ты уже, — гаркаю командным голосом. Обычно я на подопечных не использую свои возможности, но бывает выводят.
Хорь замирает, вытягиваясь по струнке смирно, и, чётко протявкивая каждое слово, сообщает:
— Уважаемый жнец, докладывает хорь по имени Линька, товарищ Маруся в опасности, в тылу вражеские жнецы ожидают, — Линька замялся, — чего-то.
А это неладно. Маруся, как же так? Тебе ж всего-то третий десяток пошёл. Как существо бесполое, безжизненное и в целом старое, я не то чтобы сочувствую людям, скорее, мне они безразличны, где-то даже противны. Собственно, это и стало одной из причин понижения. Но Маруся меня подкупила. Не моё это дело, пришло время — так пришло, что с того. Ни один жнец просто так не будет забирать подопечного. Может, и хорошо, явно в светлое посмертие пойдёт девчонка. Но отчего-то становится муторно.
— Это не потому, что я раскис, просто она мне работу облегчает, без неё придётся второй этаж строить, а то уже сесть негде, чтобы не придавить какого-то пушистика. Ясно? — я сурово смотрю на хорька, намекая, что моя репутация пострадать не должна.
По всей морде Линьки ясно читаю, что там от репутации одно слово, нечего терять, но он великодушно кивает.
Трава в одном месте как-то странно двигается, но времени нет раздумывать над тем, кто и как её колышет, не до того.
Косу за спину, балахон отряхнул, костьми в спине перещёлкнул и с важным видом иду к Марусе, насвистывая: «Куда идём мы с пятачком, большой-большой секрет, и не расскажем мы о нём».
На месте меня уже ждёт дамочка с района с такой же косой. Мы с ней особо не пересекались, но, по слухам, она до черта правильная, никаких отступлений от списка, никаких договоров. Да и что мне ей предложить? Хомяка в подарок? Ну, только если хочу врага себе нажить.
— В голове моей опилки, не беда, от того пою я эти песни вслух, да-да-да, — допел по инерции, не думая, какое произвожу впечатление.
— Заметно.
От холода в голосе даже меня пробрало. Эх.
— Хм, мадам, а не могли бы мы договориться о ма-а-а-аленьком одолжении такому чудесному мне от такой великолепной вас? — лучше сразу к делу, чего расшаркивать.
Мадам молча раскрыла свиток, чуть ли не тыкнув им в мой нос. Обидно, но ладно. Что тут у нас?
— Маруся Беликова, бла-бла года рождения, урождённая бла-бла-бла, ага, вот. Декабрь, 23 число, 19.00, упадёт неубранная сосулька на голову, летальный исход. Сосулька? — я вскидываю бровь в человеческом жесте недоумения.
— Истинные пути неисповедимы. Это будет быстро, она ничего не поймёт.
На часах 18.55, на Марусе уже пальто и намотанный, как на мумию, шарф, стрелка медленно тикает, рука берёт шапку, щёлкает выключатель, а сосулька наверняка готова свалиться.
— Но ведь можно… Можно же и не забирать, если душа способна на что-то ещё? Наверняка у неё есть потенциал.
— Нет.
— Но она, — сам замолкаю от глупости ситуации, ведь всё равно же, одним человечком больше, одним меньше, но всё же заканчиваю нелепую тираду, — ведь хорошая…
— Да.
Таким, наверно, и должен быть жнец: спокойным, безэмоциональным, правильным. Надо — значит надо, и никаких соплей.
— И я не буду портить свою репутацию, но у кого-то её ведь нет.
Улыбаюсь, как дурак. А ведь правда, что мне будет? Ну понизят до муравьиного или тараканьего жнеца, буду делать ставки, скольких прихлопнет человек в ночную вылазку на кухню, да и им рай не положен, так, бегают по закуткам междумирья. Но надо понять как… Как помочь. На часах без двух минут. Физический мир нам неподвластен, по крайней мере, мне: ни позвать, ни толкнуть. Вот был бы тут хомяк, эти-то мне везде подвластны. Озираюсь по сторонам, но естественно ни одного рядом… Есть. Летит с потолка, сверкая чёрными бусинками и пища приветственное: «Только посмей не поймать меня-я».
— Хамончик? — он худей, с противным рыжим окрасом, вместо благородно дымно-серого, и живой, но это явно он.
Минута, с другом в руке оказываюсь возле Маруси, та пытается закрыть дверь на ключ. Думаю кинуть Хамона, чтобы она сдвинулась хоть чуть, но безвольно опускаю руку, с другом так нельзя. Он ведь только дождался своей очереди, вернулся, не отдохнув в своем хомячьем раю, прибежал, и я не могу его кинуть.
— Швыряй меня, — раздаётся воинственный писк.
С дозволения друга с чистой, несуществующей душой бросаю его Марусе.
Возможно, нельзя объяснить появление хомяка зимой с небес. Возможно, Маруся до конца недолгой жизни Хамона, а теперь уже Кузи, будет благодарить его за своё спасение, ведь она отделается только порванной курткой. Возможно, я буду навещать Хамончика-Кузьму каждый день, чтобы насмехаться над его позорным рыжим окрасом и слушать тихую ругань в ответ, переходящую в довольное нечленораздельное фырканье, когда Маруся его гладит, а делает она это регулярно. Возможно, нет лучше созданий на свете, чем хомяки, и крепче дружбы, чем моя и Хамона.
Помигиваю другу, обещая, когда придёт время, выгрызть ему самый ближайший номерок в рай, даже если придётся лично сражаться с сотнями его собратьев.