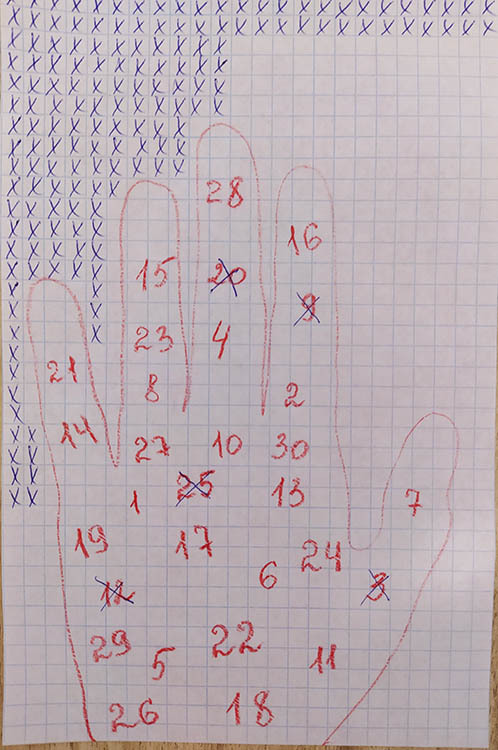Рассказ "Тишина за стеклом". Глава 1. Искусственная тишина
— Ты заметил, как здесь тихо? — голос мужчины отражался от прозрачных стен, будто стекло умело резонировать и растягивать каждое слово.
— Тишина в таких местах всегда искусственная, — ответил собеседник. — Её программируют. Даже уровень шума, даже паузы между каплями воды в фонтане подбирает алгоритм.
— Значит, всё вокруг под контролем.
— Как и люди.
Пауза была долгой. Казалось, что собеседники слушают не друг друга, а саму архитектуру: ритм шагов охранных дронов за стеной, мягкий гул фильтров воздуха, равномерное мигание белых линий на потолке.
— Ты всё ещё сомневаешься? — наконец спросил первый. — Система работает. Она доказала свою эффективность. Уровень преступности — ноль.
— Ноль зарегистрированных преступлений, — поправил второй. — Но цена за этот ноль? Ты уверен, что её можно оправдать?
— Ты хочешь сказать, что лучше терпеть убийства, кражи, насилие, чем позволить технологии делать то, для чего они созданы?
— Я хочу сказать, что эти технологии не предотвращают зло. Они наказывают за тень, за возможность, за вероятность.
— Вероятность иногда смертельнее самой реальности. Статистика не лжёт: девяносто семь процентов «изолированных» действительно совершили бы преступление в ближайшие три года.
— Но трое из ста — невиновны. Ты понимаешь, что это значит?
Первый собеседник вздохнул и сел в мягкое кресло. Второй остался стоять, словно не доверял мебели, такой же стерильной, как и весь этот зал с панорамным куполом.
— Трое из ста, — повторил первый. — Это трагедия, я согласен. Но миллионы спасённых? Миллионы жизней, которые продолжаются только потому, что кто-то был изолирован заранее. Ты не видишь масштаба.
— Я вижу другой масштаб, — голос второго стал жёстче. — Я вижу миллионы людей, которые живут под угрозой. Любой их жест, слово, мысль могут быть интерпретированы системой как признак опасности. Они живут не жизнью, а экзаменом, где неверный ответ — тюрьма.
— Не тюрьма, — возразил первый. — Центры адаптации.
— Назови их хоть садами. Человека лишают свободы. И хуже всего, что его наказывают не за то, что он сделал, а за то, что, может быть, сделал бы.
— Но ведь свобода одного всегда кончается там, где начинается право другого на жизнь.
— А где кончается право жить без страха, что тебя объявят монстром из-за вероятности?
Молчание снова повисло. Их голоса, отражаясь от стен, превращались в полифонию — будто спорили не двое, а десятки.
— Послушай, — сказал первый мягче. — Мы живём в лучшем из возможных миров. Вспомни историю. Войны, тирании, преступные столицы, где каждый боялся выйти на улицу. Всё это ушло в прошлое. Люди больше не убивают друг друга в подворотнях, не держат под кроватью нож для самообороны. Разве это не прогресс?
— Прогресс, построенный на том, что будущее объявлено преступлением, — отрезал второй. — Ты называешь это «лучшим миром». Я называю это хрупкой клеткой.
— Хрупкой? Система доказала, что она устойчива.
— Любая система рушится не от внешних врагов, а от того, что гниёт изнутри. Она рушится, когда люди перестают верить, что справедливость принадлежит им, а не машинам.
— Ты боишься машин?
— Я боюсь не их. Я боюсь того, что человек добровольно отдаёт им свою свободу, думая, будто он её сохраняет.
Первый собеседник задумался. Его пальцы механически перебирали стеклянные гранулы на столе — прозрачные, одинаковые, безупречные.
— Скажи, — начал он, — а если завтра ты узнаешь, что твой сосед собирается убить тебя? Что система предсказала это с точностью девяносто семь процентов. Ты бы что выбрал: подождать, пока он поднимет нож, или попросить, чтобы его изолировали заранее?
— Ты сейчас играешь с эмоциями, — резко ответил второй. — Это манипуляция страхом. Именно так оправдывают любую диктатуру: сначала внушают угрозу, потом обещают защиту.
— Но ведь это не внушение. Это факты.
— Факты? А если система ошиблась? Если этот сосед просто однажды в ярости написал в личном дневнике: «Иногда хочется всё разрушить», — и его алгоритм занёс в список «опасных»? Ты готов лишить его жизни на свободе из-за крика души?
— Если этот крик мог стать действием, да.
— Значит, мысль равна преступлению?
Первый замолчал. Но во взгляде его не было сомнения — лишь холодная решимость.
— Ты слишком доверяешь машинам, — мягко сказал второй. — Но они всего лишь зеркала. Они отражают то, что в нас самих. И если мы верим, что каждый способен стать преступником, система найдёт это подтверждение.
— А если мы будем верить, что человек добр, — усмехнулся первый, — система будет игнорировать его агрессию и позволять убийствам?
— Я не говорю о наивности. Я говорю о праве. О праве быть человеком, а не прогнозом.
Они снова замолчали. За куполом медленно двигались транспортные капсулы, скользя по невидимым путям. Город жил своей безмятежной жизнью, как будто ни у кого здесь не было причин для тревоги.
— Ты знаешь, что самое страшное? — спросил второй после долгой паузы.
— Что?
— Что люди перестали задавать вопросы. Их устраивает мир без преступлений. Их не волнует, какой ценой он построен. Они перестали думать. И, возможно, именно это преступление куда страшнее любого другого.
— Ты считаешь, что свобода думать важнее, чем свобода жить?
— Я считаю, что без свободы думать жизнь перестаёт быть человеческой.
Их голоса смолкли. Только фонтан за стеной продолжал равномерно капать, выстукивая ритм, похожий на медленный отсчёт времени.