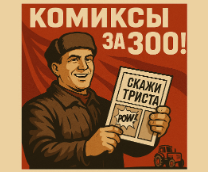
Комиксы за 300
2 поста
Если телефон знает пароль от моей почты, значит,
кто-то его научил. Вопрос только — зачем.
— Из заметок Основателя, не датировано
Клуб «Пятый Угол» я купил почти случайно — как берут поломанный мотоцикл на запчасти, а потом понимают, что можно починить. Заведение было в глубоком минусе, с облупленным фасадом и репутацией «места, где странно». Меня это не пугало. Рента низкая, контингент — управляемый, здание — в пределах третьего кольца.
Сделка была бы стандартной, если бы не одно условие. Юрист — представитель прежнего владельца, сухой и осторожный, проговорил его в самом конце:
— Про кабинет управляющего. Не менять планировку. Не перекрашивать. И портрет на стене оставить.
— Какой портрет?
— Увидите. Не снимайте.
Я не стал уточнять, хотя было странно. Мы оба подписали бумаги, он ушёл. Через месяц пришёл снова. Не как проверяющий или арендодатель — просто зашёл, заказал кофе, заглянул в кабинет, провёл пальцем по столу, посмотрел на портрет. Ничего не сказал, поставил галочку в своём планшете и ушёл. Я проводил его взглядом. Сейчас это уже привычный ежемесячный ритуал.
Портрет и правда вызывал вопросы. Мужчина лет пятидесяти, вполоборота, костюм безвременно старомодный, пронзительный взгляд. Ни имени, ни даты. Только тонкая латунная табличка внизу: «Основатель».
Я пытался снять его в первый день — не вышло. Шуруповёрт соскальзывал, саморезы будто упирались в бетон. Забросил. В конце концов, если в этом всё основание «скидки» — почему бы и нет?
А кабинет был... рабочий. Все бумаги, подписанные здесь, проходили без проволочек. Счета оплачивались вовремя. Даже поставщики, с которыми я бился месяцами на другом проекте, здесь соглашались с первого звонка. Суеверие? Может. Но я все основные документы перевёз именно сюда.
Ночные смены иногда жаловались. Мол, вентиляция шумит, иногда ручка двери шевелится. Один диджей сказал, что слышал, как кто-то его по имени зовёт. Я отмахивался. Пока лично не начал замечать «странное».
Сначала — вещи начали менять места. Я точно помнил, что оставил ключи на полке — находил их в шкафу. Камеры в коридоре писали «пусто», но я отчётливо видел, как кто-то двигался в отражении стеклянной двери. Никакой мистики — просто игра света, просто казалось. Но пару раз даже перекрестился. На всякий случай.
Однажды ночью я остался допоздна. Пятница, отчёты, налоговая. Вода в кружке на столе покрылась тонкой ледяной коркой, хотя в кабинете было +23. Я проверил термостат. Работал.
В 02:14 под дверью раздался лёгкий шорох. Словно кто-то возился с бумагами. Или когтями по линолеуму. Через минуту — снова. Я вышел — никого. Вернулся. В журнале — свежая запись. Моим почерком. Только я её не писал.
"Как я устал. Гость стабилен. Изменение статуса — ожидается."
Я начал копать. Пересмотрел старые бумаги. Судя по записям, портрет висел здесь с 1997-го. Были и другие арендаторы. Большинство — по полгода, некоторые — по неделе. Почти все уходили молча, не требуя возврата, оставляя дела.
Я позвал своего знакомого – старого инженера. Он пришёл, потрогал стены, понюхал вентиляцию, поковырял плинтус — и ушёл. Сказал: "Воздух тут как не местный. Как будто его фильтруют где-то ещё, а потом подают сюда. Надо вскрывать стены, смотреть вентиляционные каналы. Перегородки из мелкой сетки почти сразу. Эндоскоп далеко не пройдёт."
В тот вечер камеры снова дали сбой. На записи — я, сижу за столом. Моргаю. Пишу. Через секунду — пусто. Кружка на месте. Я — исчез. Через две секунды — обратно. Как будто кто-то вырезал кадры. Или я на секунду «не был».
Я стал писать журнал вручную. Ночами – когда задерживался. Для себя. Чтобы зафиксировать, если что-то пойдёт не так. Да и разобраться, может это я уже что-то забываю. Примерно так:
02:18 — взгляд с портрета сместился на дверь. Или он всегда туда смотрел?
02:23 — ручка дрогнула. Подпёр стулом на всякий случай.
02:31 — из вентиляции тянет пылью с солью. Полосы на ковролине.
02:40 — неон за окном потускнел на полтона.
Потом пришло утро. День как день. Никто не умер, касса сошлась.
На следующей неделе диджей вернулся со странным предложением:
— Я сет не принёс. Они сказали что сегодня займутся. — и ткнул пальцем вниз.
— Кто?
— Ну... этот. С пустыря.
А пустырь — это бывшая прачечная под окном кабинета на соседнем участке. Снесли здание под реконструкцию, а потом заморозили стройку. Осталась яма и торчащая арматура. Когда ветер менялся, в ней что-то подвывало. Как будто ветер пел.
Помню охранник однажды сказал:
— Вчера вечером костёр горел на пустыре. Через окно смотришь - горит, и мужик какой-то, будто согреться пытается. Выходишь, а его нет уже. И костра тоже.
Я кивнул. Просто кивнул. На автомате. Как будто всё это уже было.
Сегодня допоздна меняли старую барную стойку. Я остался — доделать отчёты, принять поставку. Уснул в кабинете на диванчике.
Разбудил резкий писк — сработала сигнализация.
03:30. Ручка дёрнулась. Пауза. Снова. Не как попытка войти — скорее проверка: закрыто ли?
Из-под пола тянуло холодом. Сырой, вязкий воздух, как из подземного колодца. Зубы свело.
Портрет больше не смотрел на дверь. Взгляд был на стену на которой он весел. Я подошёл, приложил ладонь: стена вибрировала. Как пульс. Медленный, глубокий.
Я снял раму. Она поддалась, будто ждала. За ней — щель, едва сантиметр. Оттуда тянуло ледяным. Внутри — только плотная, чёрная тьма. Холст был тёплый, как кожа. На обороте, под лаком и пылью, проступали строки:
Основателя зовут (неразборчиво)
Если Гость пришёл — Основатель помогает.
Гость засиделся. Через полгода он стал жильцом.
Если Основатель добр — выход возможен.
Основатель холоден с жильцами.
Я попытался выйти. Дверь не открывалась. Ни ключи, ни замок — ничего не реагировало.
Холод усиливался. Комната сжималась, как будто сама себя закатывала в лёд. Двигаться стало трудно, пальцы — как деревянные.
И тут понял. Я понял, что прошло ровно полгода. Я — не гость. Я — жилец.
Вернулся к портрету. Под надписями оставалось место. Я дрожащей рукой дописал:
«Выход — по подписи.» и расписался
Ничего.
Холод стал сильнее.
Пальцы почти не слушались.
Я взглянул на первую строку, вытер замёрзшим рукавом имя, едва читаемое. И написал своё. Поверх.
Через несколько секунд мороз отступил. Воздух стал ровным.
Сработало.
Портрет перестал «смотреть». Полотно растворилось. Осталась только рама.
Вокруг начало темнеть. Как будто яркость выкрутили на ноль.
Осталась только рама — и за ней мой кабинет.
---
Утром пришёл юрист.
Спокойно, как всегда. Открыл дверь, вошёл в кабинет.
Подошёл к картине, посмотрел — и чуть улыбнулся, с тем мерзким удовольствием, с каким кассир находит фальшивую купюру.
Пролистал журнал.
Там был текст. Всё, что я думал, писал, чувствовал — уже было на бумаге.
Последние строки:
«Я стал Основателем. Теперь моя очередь — помогать… гостям.»
Юрист подошёл к портрету.
Осторожно поправил раму. Улыбнулся изображению.
А я...
я мог только медленно вращать глазами.
Запертый в бесконечной темноте холста.
Дежурство. Три часа ночи. Это всегда одно и то же. Особенно, когда это твоя вторая ночь подряд, а завтра будет третья. Глаза слипаются, кофе уже не берёт, а в голове крутятся привычные мысли: сегодня поступил очередной сердечник, который ел много жирного, курил и «неожиданно» прихватило, друг зав отделения, и теперь следить за ним всю ночь, не приляжешь.
Я, медбрат по призванию и хронической усталости, проверяю капельницы в нашем кардиологическом отделении. Пустые коридоры, запах хлорки, приглушённый свет ламп — всё как обычно. В ординаторской тихонько урчит лоуфай — плейлист дежурной сестры, пока я пытаюсь допить свой остывший чай.
Стук.
Металлический. Как будто кто-то по трубам стучит, но ритм странный — не случайный. Тук-тук-тук, пауза, тук-тук. Мне сразу вспомнились моя старая комната в сталинке, которую я снимал напополам с другом. Там на чердаке стоял открытый расширительный бак системы отопления, и когда кочегар слишком много насыпал угля, и вода в системе начинала закипать, трубы гудели и стучали так, что казалось, дом сейчас развалится. Но здесь… слишком странно для здания, в котором недавно был капитальный ремонт.
«Ну ремонт ну и чё? — бормочу я себе под нос, — опять половину бюджета растащили и забили на системы, которые не на виду». — когда я устаю то начинаю говорить вслух.
Но звук повторяется. И в нём есть что-то... не то. Что-то, что заставляет мурашки бежать по спине, хотя я за свою жизнь видел и слышал вещи гораздо более странные.
Позже где-то сверху добавился звук воды. Сначала как будто что-то капает, потом уже льётся. Но потолок сухой, дождя нет, да и новая кровля не должна пропускать воду.
Прошёл по палатам. Все спят. Тишина. Возвращаюсь на пост — опять этот металлический стук.
«Ну, у нас тут пациенты такие бывают, слышат то, чего нет, — думаю вслух, — Но когда сам начинаешь слышать — это уже херня нездоровая».
— Ты что там? — спрашивает старшая сестра, выглядывая из ординаторской.
— Да вот, стук какой-то странный…
— Ничего не слышу, — отвечает она, отвлекаясь от телефона. — Тебе показалось. Брал бы ты смен поменьше, Андрей.
Вроде стало тише. Из старого радио ординаторской заиграло что-то мягкое, похоже на энигму. Я заварил чай, покрепче — от дешёвого растворимого кофе уже язык сворачивается. Перекусил.
Шорох, как будто кто-то прошёл мимо стойки. Вышел дальше в коридор. Пусто и темно — снова стук. Прямо надо мной, с чердака. И вода. Отчётливо капает вода.
Решаю проверить. Беру фонарик, связку ключей от служебных помещений, иду к винтовой лестнице, ведущей на чердак. Сквозняк, скрип половиц под ногами, кажется, каждая доска стонет. Звук усиливается с каждым шагом.
Вода слышна отчётливей — словно кто-то плещется.
Поднимаюсь. Дверь на чердак — массивная, деревянная, с амбарным замком — закрыта. Но из-под неё сочится вода. Не капает, а именно сочится тонкой струйкой, растекаясь по пыльным ступеням. Бред какой-то. Потолок сухой, никаких дождей, откуда вода?
С трудом отпираю замок, он противно скрипит. Открываю дверь. Внутри сухо. Тишина. Шагаю за порог — позади хлопает дверь.
«Просто сквозняк, да это просто сквозняк»
В кромешной темноте чердака слышится отчётливый звук капель и металлический скрежет. Звук как будто идёт изнутри самого чердака, из его тёмного, кажется бесконечного, пространства. Добавилось ещё что-то, похожее на приглушённый плеск, будто кто-то бесшумно передвигается по лужам.
Освещаю фонариком — пусто. Только балки, вековая пыль, да какие-то забытые ящики. Медленно провожу фонариком от края до края. Лицо. Лицо без кожи, век нет, одни мышцы.
«Ох сука» - выронил фонарик.
Быстро поднял и направил его на лицо. Просто старый, пожелтевший плакат на стене, прибитые ржавыми гвоздями. Подошёл. Рядом висят и другие советские стенды с анатомическими рисунками: лёгкие, сердце, желудок… Чёткие, с подписями на выцветшей бумаге. Вокруг ящики с инструментами, скальпели, зажимы. Такое ощущение, что здесь раньше было хирургическое отделение.
Звук, который, казалось, исчез, появился снова. Будто перемещается. Справа, потом слева, как эхо, играющее со мной в прятки.
И вдруг в свете фонаря что-то сверкнуло. На одной из чугунных труб мокрый отпечаток ладони. Чёткий, с пятью пальцами. Холодный, свежий. Но на чердаке кроме меня никого нет. Абсолютно никого.
Внезапно звук прекращается. Вода как будто испарилась. Вокруг звенящая тишина, лишь где-то вдалеке на улице включилась сирена скорой помощи. Здесь же как будто ничего и не было.
Спускаюсь вниз, пытаясь отмахнуться: «Ну, крыша поехала, бывает. Недосып». В ординаторской на столе вижу металлический, хирургический лоток в котором обычно стоят колпачки с лекарствами для пациентов. На дне — капли воды. Я точно помню, что он был сухой, когда я заходил в ординаторскую перед подъёмом на чердак.
«Плакаты. Эти жёлтые плакаты.»
Спать уже не хотелось.
---
На следующее дежурство я шёл буквально на морально-волевом усилии. Вчерашняя ночь не отпускала. Стуки, вода, лоток… «Просто устал, просто недосып», — убеждал я себя, но верилось с трудом. Коллеги при расспросах пожимали плечами, слышали только редкие стуки водосточных труб. Говорили, что это вороны да белки орехи по крыше катают.
Эта ночь была тише, но внутренняя тревога не отпускала. Я постоянно прислушивался к каждому шороху. Пациенты храпели, где-то внизу скрипнула тележка. Я не пил чай, радио осталось выключенным.
Вдруг снова. Еле слышно. Тук-тук-тук. Металлический. Откуда-то снизу, из подвала, но отдавался эхом по всему зданию. И снова этот звук воды, на этот раз будто не сверху, а из стен. Бульканье.
На чердак я не пошёл. Хватит с меня. Но когда я проходил мимо кабинета главврача, из-под двери сочилась вода. А на двери висела табличка: «Ремонт». Дверь была заперта.
И снова на посту. Чувствую, что за мной наблюдают. Движения теней, как будто ещё более чёрных пятен в и так не освещённых коридорах. Медсёстры в ординаторской начали искоса на меня поглядывать, нервничать, списывая всё на усталость. «Послышалось», «накручиваешь себя», «просто надо отдохнуть».
Наконец, утро. Лучи солнца казались спасительными. Домой. Как можно скорее.
Дома я, не раздеваясь, сел за стол. Рука сама потянулась к стопке листов, которые были в принтере. Заявление. На увольнение. Сил не было. И на отпуск. Два года без отпуска. Отдам вначале на отпуск, затем на увольнение. Больше не выйду.
Потом, как в тумане, разогрел вчерашние котлеты полуфабрикаты в микроволновке, поел без аппетита. Заварил травяной чай, крепкий, успокаивающий, кофеин точно сейчас ни к чему.
Закрыл блэкаут шторы. Лёг. Закрыл глаза. В комнате темно и тихо. И тут… стук по батарее. Тук-тук-тук. Рядом, прямо у изголовья. Холодный пот выступил на лбу.
«Просто недосып, — прошептал я, — просто старый дом».
Тишина. Только где-то на кухне зашумел холодильник.
Из трубы снова донеслось царапанье, будто ногтями по металлу. Цук. Цук. Цук. Как биение моего сердца.
Я дёрнулся, открыл глаза. Комната была погружена в полумрак, шторы не пропускали свет. Но батарея блеснула, будто покрыта свежей эмалью, и в ней проступило моё лицо. Улыбающееся. Чужое.
Я моргнул. В отражении начал проступать анатомический рисунок, как на плакатах из ординаторской: мышцы красными полосами, белые сухожилия, пустые глазницы.
Оскал без губ.
Зубы клацнули. Тук. Тук. Тук.
Я хотел крикнуть... но зубы в отражении щёлкали в такт моим.
Если идти от восточного входа в парк по асфальтовой дорожке, огибающей пруд с облупленными лебедями, и не сворачивать налево к кафе «Сливочный ветер», то минут через шесть выйдешь к планетарию. На карте города он обозначен как «Планетарий им. Циолковского», но табличка давно отвалилась, и теперь фасад украшает только черное пятно, похожее на контур лопаты. В тёплое время года подростки рисуют на нем граффити маркером, но к утру они стираются. Не знаю, кто это делает. Возможно, тот же, кто подкрашивает облезающие перила или заменяет перегоревшие лампочки в холле. Я не спрашивал. Это не по мне — задавать лишние вопросы.
Я работаю здесь уже пять месяцев. Формально — ночной сторож. Неформально — тот, кто не хочет спать дома. Меня зовут... ну, допустим, что это не важно. Это ничего не меняет. У меня есть привычки, и они меня держат лучше любых лекарств.
Я приезжаю к началу дежурства — в 18:00, хотя охранять особо нечего. Экскурсий по вечерам не бывает, школьники разбредаются ещё днём, а взрослым сюда и днём ходить не с руки. Интерес к звёздам — это такая штука, которая или пройдёт с возрастом, или останется, но станет неприличной. Как коллекционирование салфеток или пристрастие к киселю.
Сторожка находится прямо за основным залом, чуть в стороне от проектора. Комната тесная, с окном, выходящим в заросли бузины. В ней пахнет заплесневелым пластиком, старым пивом и цементом — не знаю, откуда берется последний запах, но он тут устойчивый, как моя фамилия на табельной доске. Комнату я не проветриваю. Холодновато. Лучше пусть так.
Первое, что я делаю, когда заступаю на смену, — включаю лампу с красным абажуром. Она единственная, которая не даёт тени. Потом ставлю на плитку воду для очередного дошика и сажусь читать. У меня есть ящик, где лежат книги и всё остальное, что находят уборщицы после детских походов. Вчера дочитал комикс про путешественника во времени, который всё забывал, включая сам себя. Показалось реалистично.
Всё это может показаться странным, но у меня нет потребности в общении. Иногда приходит охранник из соседнего музея, приносит кофе. Мы молча выпиваем, переглядываемся, как собаки на автобусной остановке, и он уходит. Иногда звонит кто-то по старому городскому телефону у входа. Я не поднимаю трубку. Да и работать он не должен.
Прошлой ночью я заметил кое-что странное: потолок над куполом в зале покрылся тонкой сеткой трещин. Как будто бы не трещины, а сеть, выцарапанная изнутри. В ней угадывался рисунок. Что-то вроде цветка или схемы. Я видел подобное в старом журнале «Наука и жизнь», который валялся в коробке с лампочками. Тогда это был чертёж нейронной сети мозга. Сейчас — просто след.
Кто-то может спросить, зачем я всё это терплю. Почему не сплю дома. Почему не уехал в тёплые края на те деньги, что получил после аварии. А я скажу: я не знаю. Есть вещи, которые держат тебя на месте, как гвоздь через тень. Не больно, не страшно. Просто не двигаешься.
Иногда по ночам приходит девушка. Она не говорит, не привлекает внимание. Просто садится на верхние ряды купола, под самый край тени. По вечерам моё зрение теряет остроту, так что её лицо для меня размыто, как у тех, кого сняли на старый полароид в движении. Я не зову её. И она не зовёт меня.
В прошлый раз она оставила синюю перчатку. Детскую. С вышитой птичкой.
С тех пор в коридоре пахнет ладаном. Хотя свечей я не жгу.
На следующее утро, когда я остался немного подремать после смены, снова приснился кран. Стальной, массивный, он медленно вращался в воздухе, как будто выбирал, куда упасть. Я стоял на бетонной плите и почему-то знал, что, если сделаю шаг вправо — он раздавит меня, а если влево — нет. Я сделал шаг влево. Он всё равно упал. Но по касательной. Как будто пожалел. И всё, что осталось — гул в ушах и я, невредимый в облаке пыли.
Я проснулся с липким горлом, будто проглотил ватный фильтр от старой сигареты. Крайние пальцы — или то, что от них осталось — ныли. Я редко думаю об этом, но бывают дни, когда обручальное кольцо вспоминается яснее, чем лицо бывшей жены. Интересно, куда оно делось. Металл не растворяется просто так. Хотя в той смене вообще многое исчезло.
На текущей работе я ни с кем это не обсуждал. Коллег у меня нет. Руководства — формально тоже. Дежурства приходят автоматически, по расписанию, как сны, которые никто не просит.
Той ночью девушка появилась снова. Она шла по проходу в зале, босиком, оставляя следы на полу, будто по нему прошёл человек, который вышел из душа. Я слышал шаги, но, когда поднял голову — никого не было. А потом её силуэт возник в проекции купола на ряд ниже от обычного места — как брак на плёнке, фантом среди звёзд. Она не смотрела на меня. Просто сидела, как и прежде.
Я не стал её тревожить. Не подходил. Просто поставил чайник и пошёл проверять коридоры. Иногда помогает сменить обстановку.
У двери к техническому помещению я заметил, что в щели кто-то засунул фотографию. Маленькая, цветная, с выгоревшими краями. На ней была детская площадка, качели и мальчик в синей куртке с мороженым. Лицо размыто, но что-то в нём было знакомое. Может, я. Может, кто-то другой. На обратной стороне фотографии был набор цифр, написанный то ли детской рукой, то ли в спешке. Я положил фото в ящик стола. На следующий день она исчезла. А может я её убрал и забыл.
В коридоре пахло ладаном сильнее обычного. Я даже вышел на улицу, проверить не забилась ли решётка вентиляции. На дворе — тишина. Луна как раз висела над верхушками сосен, чуть подсвечивая купол. Он казался живым, как жаба, глубоко втянувшая воздух.
Я вернулся и услышал, как звякнул городской телефон. Старый, с дисковым набором, тот самый, который не должен работать. Против воли я снял трубку.
— Ты ведь знаешь, что она не спит, — сказала женщина. Голос будто скребся по слуху, как наждачка по стеклу.
— Кто? — спросил я.
Ответа не последовало. Только тишина. Я ждал секунд двадцать, потом положил трубку. Посидел. Проверил, дёргается ли безымянный палец на правой руке. Его не было.
Я вспомнил, как жена просила меня выбросить этот телефон. Тогда он стоял дома, в коридоре. Красный, облупленный. Ей казалось, он "пугает гостей". Я смеялся. Тогда я много смеялся.
С тех пор, как я устроился сюда, смеюсь редко. Сны всё чаще накладываются на день. И я уже не уверен, был ли звонок на самом деле. Или это была часть иллюзии купола. Или девушка, оставившая перчатку.
Вернулся в зал. Она лежала на полу под куполом, в центре проекции. Вокруг — звёзды, пульсирующие, как капли воды в микроскопе. Я подошёл, медленно, не из любопытства — скорее из чувства приличия. Нельзя же просто так уйти, не удостоверившись что всё в порядке.
Она открыла глаза.
— Ты ведь не рассказывал мне о кольце, — сказала она и улыбнулась.
А я и правда — не рассказывал.
---
Я проснулся. Странный сон. Было уже за полдень. Солнце било в окно так, будто пыталось выгнать меня из постели. Я долго смотрел в потолок, пока не понял, что это не потолок, а видение сна, ещё не успевшее раствориться. Комната держала тепло, как будто много людей дышали в ней всю ночь. Но я точно был один.
Окно на кухне моей однушки выходило на парк. Старые ели и клёны, обвешанные синими лентами, шумели так, будто шептались обо мне. Внизу гуляли люди. Один из них вёл собаку с короткими ногами — у неё была смешная походка, она подёргивала задней лапой будто катилась на невидимом скейтборде.
Я налил себе кофе, облокотился на подоконник и слушал, как шуршит вода в трубах. Включили отопление. Когда почти каждую ночь дежуришь в планетарии, время становится вязким. Его можно размазывать, складывать в комки и прятать в карманы. Иногда кажется, что можно не приходить домой день или неделю, и никто не заметит.
Я вспомнил как на днях мне снилась школа. Я сидел в пустом классе, меловая доска трещала, как будто её царапали когтями, а на подоконнике лежала перчатка. Женская. Красная. Такая, какие носили в 80-х. Я смотрел на неё и знал, что она откуда-то из будущего. Или из прошлого. Или из парка. После того как тогда проснулся — под ногами была пыль, на пальце — фантомная боль.
---
В планетарии сегодня выходной и вечером я решил прогуляться по парку. Без особой цели — просто не хотелось сидеть под куполом до темноты. В такие дни планетарий казался мне выдохшимся. Как старик, который больше не в состоянии рассказывать сказки, но всё ещё помнит, что рассказывал.
На скамейке сидела она. Та же девушка. Или нет — почти та же. На этот раз её волосы казались короче, в руках — книга без надписей на обложке. Я сел на соседнюю скамейку, молча. Она не обратила внимания.
Я смотрел, как её пальцы переворачивают страницы. Мягко, не торопясь. Как будто они и были страницами, а книга — просто повод касаться чего-то. Листья падали ей на плечи, но она не стряхивала их. Будто не чувствовала.
— Приятная погода, — сказал я.
Она кивнула, не отрываясь от текста.
— Я раньше думал, что парк — это просто место. А теперь понимаю, что он живой.
— Почему?
— Потому что он слушает. И запоминает.
Она закрыла книгу и посмотрела на меня. Глаза были тёмные, как серая стена в тёмной комнате, на которой отражаются старые диафильмы.
— Тебя ведь тоже запомнили.
Я хотел что-то сказать, но язык прилип к небу. Она встала и пошла по аллее, оставляя за собой еле слышный хруст листьев.
---
Я вернулся в планетарий и не включал свет. Просто лёг на кушетку в диспетчерской и смотрел на выключенный монитор. В отражении я увидел её — она сидела на моём месте, положив ноги на стол. Улыбалась. Мне показалось, что у неё не хватает двух пальцев. Но, скорее всего, это просто игра теней и отражения.
В ту ночь снова пришла тревога. Не в груди, не в горле — в воздухе. Как будто кто-то шептал за стенкой, повторяя моё имя. Я встал, пошёл по коридору. Лампы мерцали. Вдоль стены — следы босых мокрых ног, как в прошлый раз. Но теперь они вели не в зал, а к аварийному выходу. Дверь была открыта. За ней — ночь. И парк.
Я вышел.
Свет фонаря отбрасывал длинные тени. Где-то в глубине деревьев был шелест, словно бумажный. Я пошёл на звук.
В центре поляны стояли старые качели. Один из тросов был оборван, сиденье покачивалось медленно, как маятник. Рядом — старая лавка и... я.
Я сидел там, в рабочей куртке, с кружкой чая. Пальцы — все на месте. Он... (я в рабочей куртке) посмотрел на меня и усмехнулся.
— Ты всё ещё не понял, да?
— Что?
— Почему кран не убил тебя.
— Случайность.
Он покачал головой.
— Не бывает случайностей. Бывают попытки. Уйти — тоже попытка. Не дожить — тоже.
Я моргнул, и он исчез. Только кружка осталась на лавке. Я подошёл и увидел: на ней гравировка — две буквы, инициалы "А.Н."
Где я мог их видеть?
---
Долго не мог вспомнить — именно так подписывала меня жена в телефоне.
По мере прогулки я начал замечать, что забываю простые вещи — ПИН-код, имя начальника, дату рождения. Мне казалось, что я становлюсь легче, будто из меня что-то вытекает. Появлялась ностальгия по вещам, которых не было. В голове вспыхивали образы: стройка, ночь, туман из пыли, лязг крана, кровь на бетоне. Кто-то кричал. Но не я. Кто-то другой.
Я вернулся в планетарий, но не пошёл в сторожку. Просто сел в зале, в первом ряду, и смотрел на пустой купол. В темноте он казался бесконечным, как чёрная дыра, которая засасывает не только свет, но и время. Я чувствовал, как что-то внутри меня растворяется, как сахар в горячем чае.
Внезапно включился проектор. Сам по себе, без нажатия. На куполе появились звёзды — не те, что обычно показывают посетителям, а какие-то другие. Неправильные. Как будто кто-то перерисовал карту неба от руки, по памяти. Там, где должен быть Орион, была пустота. А на месте Кассиопеи — символ, похожий на замочную скважину.
Я не стал выключать. Просто сидел и смотрел. Звёзды медленно вращались, как в калейдоскопе накладываясь верхние ряды. А потом среди них появилась она — девушка. Её силуэт был нарисован светом, как на старом диафильме. Она сидела под самым краем купола, и смотрела вниз.
— Ты не спишь, — сказала она. Голос звучал откуда-то из воздуха, как эхо в пустой комнате.
— Не могу, — ответил я.
— Почему?
— Потому что боюсь увидеть сон.
Она спустилась по рядам, медленно, как будто ступала по невидимым ступенькам. Её ноги не касались пола. Она остановилась в нескольких метрах от меня.
— А что ты видишь, когда не спишь?
— Тебя? – попытался пошутить
Она улыбнулась. Это была не та улыбка, которая согревает.
— Я не настоящая, — сказала она.
— Я догадывался.
— Тогда почему ты меня видишь?
— Потому что ты — часть меня? Та часть, которая осталась там, под краном?
Она села рядом, на соседнее кресло. Её присутствие было ощутимым, как холод от открытого окна зимой.
— Ты помнишь, что было после? — спросила она.
— Нет. Только боль. И кровь.
— А я помню. Ты лежал на бетоне и смотрел на звёзды. Даже тогда, когда кровь стекала по каске, ты смотрел вверх. И не просил о спасении. Ты просто ждал.
— Кого?
— Меня.
Я повернулся к ней. В полумраке её лицо было размытым, как на старом фото, но глаза — ясными и грустными.
— Ты — моя смерть?
— Нет. Я — твоя жизнь. Та, которая могла бы быть, если бы ты не выбрал остаться.
— Остаться где?
— На месте. Здесь. В этом мире. Без пальцев. С этой памятью.
Она подняла руку и коснулась моего лица. Её пальцы были холодными, как лёд, но прикосновение было нежным.
— Ты мог увернуться. Ты мог уйти. Но выбрал остаться на месте. И я осталась с тобой. Как тень. Как память о том, что могло бы быть.
— А теперь?
— Теперь я хочу быть кем-то другим. Не тенью. Не памятью. Кем-то настоящим.
Она встала и пошла к выходу. У двери остановилась.
— Спасибо, — сказала она.
— За что?
— За то, что не забыл меня.
И исчезла. Как дым от сигареты.
Я остался сидеть в зале, глядя на купол. Звёзды медленно исчезали, одна за другой. А потом включился свет, и я понял, что просидел здесь всю ночь.
Утром я пошёл в парк. Солнце светило ярко, но воздух был холодным. На скамейке сидела девушка — настоящая, живая. Молодая, с книгой. Она подняла глаза и улыбнулась. И в этой улыбке было что-то знакомое.
Я понял, что она нашла кого-то другого. Кого-то, кто сможет дать ей то, что я не смог дать себе.
А я остался.
И это было правильно. Потому что каждый должен найти своё место в этом мире. Даже если это место — в тени.
---
Парк просыпался неохотно, как будто ночь оставила на нём слишком много отпечатков. Мягкий свет просачивался сквозь листву, запутавшуюся в проводах и ветках, и воздух был густым от запахов мокрой земли, старого асфальта и чего-то еле уловимого, почти животного — как будто город выдыхал. Каждый шаг по утреннему мокрому асфальту казался для меня шагом в совсем другом времени, другом месте, но в пределах одного города. Это место было родным и чуждым одновременно.
Я шёл через парк, не спеша, теряя в воздухе остатки сна. Девушка — та, что была тенью, памятью, несбывшимся — шла немного позади, рядом с парнем в чёрной толстовке. Он её не видел. Он не должен был её видеть. Но тело его уже чувствовало перемену: плечи чуть расправились, походка стала плавнее. Будто к нему вернулся кто-то, кого он сам забыл. Он шёл по привычке, а не по необходимости. Я стоял в стороне и наблюдал — наблюдал как в фильме, где все движения — медленные, но точно знаешь, что всё происходящее изначально уже завершено.
Она обернулась. Её глаза, чуть сонные, будто были проникнуты светом, не видимым остальными. Губы — чуть приподняты, как у девушек на старых фотографиях: не улыбка, но намёк. Тень улыбки. Та самая, которую оставляют в памяти.
— Спасибо, — сказала она. Всё было как когда её голос, вроде бы только что услышанный, исчезал в комнате.
— За что? — сказал я, хотя понял, что вопрос не имеет смысла.
— За то, что не забыл, — ответила она, почти неслышно, и я почувствовал, как этот ответ тянет меня в какую-то пустую, неизведанную часть души. «За то, что не забыл» - этих слов было достаточно, чтобы почувствовать, как уходят долгие годы в пустую тень.
Она прошла мимо. Легким шагом, не оборачиваясь. Тело её двигалось как будто без усилий, как волны, скользящие по поверхности пруда, не создавая ряби, но оставляя после себя неясное послевкусие.
Она исчезла. Нет, не растворилась — именно свернула с дорожки и ушла. Словно человек. Как будто теперь у неё были колени, которые могли болеть от долгих прогулок, и лёгкие, которые могли хрипеть при простуде.
Парень оглянулся. Он не понял, что случилось. Он не мог понять. По крайней мере сейчас.
---
Я лёг на пол зала под куполом. Плитка холодила плечи, и купол над головой вдруг стал не потолком, а открытым небом — старые лампы дрогнули, звёзды начали медленно тянуться в стороны, как будто кто-то растягивал фотографию. Я сказал вслух, почти шёпотом, не для кого-то, а для себя:
— Я готов... готов вспомнить.
В тот же момент лоб будто провалился. Не было одного длинного воспоминания, была серия вспышек — коротких, сухих, почти без звука; я видел их, как слайды диафильма, прокручиваемые как старая киноплёнка, и я был и свидетелем, и участником.
Кран. Ветер. Металл, мягкий как пластилин медленно сминается и падает. Во сне я делал шаг влево — и он лишь по касательной немного меня толкнул. В воспоминании я остался стоять. Я вижу шлем, кровь, бетон, звёзды над головой, как дырки в фотоплёнке. Я смотрю на себя, а в глазах — стекловатая пустота. Там, где должны были быть пальцы, — только два обрубка. Я чувствую не боль, а удивление: почему я не кричу, не шевелюсь, не пытаюсь подняться. Я просто лежу и смотрю вверх. Жить тогда казалось ошибкой. Жить — это значит терпеть дальше. Значит помнить дальше.
Вспышка детства: парк, та же скамейка, зима, та же девочка в синих перчатках с птичкой. Она сидела и крутила в руках старый полароид, и мир вокруг был меньше и проще. Родители работали, меня оставляли одному. Я ел мороженое хотя была зима, но оно было недорогое. Девочка посмотрела на меня только раз. Её перчатки были синие, как небо в звёздную ночь. Я запомнил их. Они прилипли к запахам — смола, сироп, кленовые листья. Фотография — полароид с моим лицом в синей куртке, солнце, детская улыбка, зубная щель. Она позже окажется в её вещах. Она — та, кто угощал меня мороженым и приглашала в гости, когда родители задерживались.
Бутылка. Скрип кресла. Жена стоит в кухне, волосы растрёпаны, голос режет воздух:
— Хватит, ты же не спишь. Ты же видишь, что не один мучаешься.
Я вижу свою же руку, пустую, с бутылкой, и вторую — ту, которую не мог удержать. Слова — как пузыри в вине. Однажды она оставила номер телефона на выцветшей фотографии— снимок, который она когда-то сделала. На нём я в зимней куртке. На нём тот самый парк, тот самый день. "Если что — звони", — сказала она, и ушла, не оглянувшись. Я вспомнил этот звук двери, как если бы он был записан на пластинку и играл ещё долго после того, как игла упала.
Ладан. Люди с работы, коллеги, попавшие под кран вместе со мной — их похороны. Строительная площадка, я один лежу практически невредимый, без двух пальцев на правой руке. На похоронах пахло ладаном — тяжёлым, сладким, как снотворное. Его запах засел в одежде, в волосах. Он вернулся в парке как эхо, как отзвук.
Я — и я со стороны. Смотрю, как я опять напиваюсь, как стакан хлопает по столу, как жена кричит и снова уходит. Я — свидетель и не могу ничего изменить. Я вспомнил, как однажды, после бессонницы, выжатый как губка, я брёл по ночному городу. Вломился в планетарий, и впервые за недели заснул на полу зала. Спал как мертвец, тусклая боль в пальцах ушла, как будто её присыпали сахаром. Проснулся — утро, солнце, пошёл домой. В квартире пустота. Она ушла, оставив на столе тот номер телефона на моём детском снимком. Я не позвонил.
Компенсация. Бумажные купюры, походы по инстанциям, штампы, подписи — и в конце — перевод. Я помню цифры, маленькие и холодные. Купил бывший муниципальный планетарий. Купил не от жадности, а чтобы не возвращаться в пустыню однушку, где каждый миг тишины казался криком.
Сцены мелькают, как кадры в старом фильме: я в ночной куртке, ставлю чайник, снимаю перчатку, сижу в сторожке смотрю на телефон. Иногда звонок, иногда тишина. Иногда она появлялась в дверях зала — то живая, то не живая. Вспышки так тесно переплелись, что трудно понять, что первично: сон или память. Но одно ясно, планетарий — это архив. Он бережно хранил то, что я последние годы старался не поднимать на свет.
Я встал. Пол был прохладен, но уже не ледяной. Я подошёл к старому телефону из холла — тот, который когда-то стоял в нашей прихожей и пугал гостей. Поднял трубку, под ней лежал свёрток. Та самая фотография сложенная в четыре раза. Набрал номер. Гудки тянулись, как кровать перед падением.
— Алло? — голос. Хриплый. Женский. Живой.
Я прикоснулся ладонью к холодной плитке на стене, посмотрел на руку без крайних двух пальцев и сказал
— Я тебя вспомнил.
Пауза. Я слышал её дыхание. Потом тихо:
— Я знаю.
---
Я не стал просить прощения, не стал требовать объяснений. Слова были лишними. Просто сказал, что «буду ждать тебя дома», положил трубку и вышел на улицу. Утро было влажным, парк просыпался медленно, и где-то вторая чашка кофе кипела в киоске. Девушка в красных перчатках прошла мимо — живая, простая, с лёгкой улыбкой на лице.
Я сделал шаг. Воздух пахнул смолой и чем-то тёплым. Впервые за долгое время мне не хотелось спрятаться под куполом. Стало не легче. Стало как будто возможным — помнить и жить.


Мягкий свет неоновой вывески “Продукты 24” расплылся в каплях на боковом стекле. Снег шёл лениво, по-зимнему, взрослому, будто с похмелья. По краям проспекта тянулись кирпичные дома с облупленной штукатуркой и вывесками: “Парикмахерская Елена”, “Ремонт обуви”, “Видео на прокат”. В витрине закусочной тускло крутилась жаровня с двумя унылыми курицами. Я знал этот проспект, каждую ямку на этой дороге. Но не узнавал его. Как будто всё это я уже видел когда-то давно, во сне, или в воспоминании.
Сижу на заднем сидении. В такси. Мягкие, чуть продавленные кресла, запах мокрого войлока и сигарет, хотя внутри никто не курит. Салон не скрипит, не пахнет новым, будто ему столько же лет, сколько и мне. Всё спокойно. И только в глубине, где-то в самом низу живота, сидит вопрос — а когда я в него сел?
— Далеко собрались? — голос водителя был не громким, и не тихим. Не навязчивым, но с оттенком того, кто давно уже всё знает, просто вежливо спрашивает. В зеркале видно только глаза. Тёмные, уставшие. Не печальные — нет. Просто… как будто они многое уже видели. Больше, чем следовало бы.
— Не знаю… не помню — отвечаю — Вроде, домой.
Он кивнул. Не “угу”, не “понятно”, просто кивнул. И поехали дальше, мимо аптеки, где я когда-то покупал валидол отцу, мимо школы, которую вроде бы давно снесли. Всё здесь. Как будто время решило больше не течь и просто разложилось по улицам.
— Давно работаете? — спросил я.
— Давно.
— А это вы меня посадили?
— Не совсем. Забрал вас возле завода.
Толком не ответил. Немного притормозил на перекрёстке, где раньше всегда не работал светофор.
Я вздохнул.
— Я работаю на этом заводе. Уже лет десять, может больше. Станки, масло, холод. Месяц без выходных отпахал уже. Всё ради семьи. Ну а как иначе? Дети, жена, квартиру так и не дали. Жена давно пилит, что меня нет, где тебя носит. А я вот… я просто хотел, чтобы у них всё было. Не лучше, чем у других. Просто… чтобы не хуже.
Таксист молчал. Только его глаза снова посмотрели в зеркало. Не прямо, а будто мимо. Слегка.
— Сегодня… хотя по ощущениям уже очень давно... У станка прям поплохело мне. Прямо как будто лампочку выкрутили. Без пафоса. Просто — щёлк, и всё - поплыл. Упал. А они… ну… мастер подбежал, смеялся ещё, что мол разлёгся, подняли, выпить что-то дали просили потом подписать бумагу, что это не у них случилось. Сказали, что скорая на проходной. Подписал. Выели меня. Уволят видимо. И что мне делать? Мне же детей кормить.
Он снова не ответил.
— Эй, — говорю. — А кто такси вызвал?
Пауза.
— Мы всегда приезжаем без вызова, — сказал он наконец. Голос был ровный, без драмы. Словно он говорил это уже сотни раз, и каждый раз — по-человечески, тепло. Не механически.
Я замолчал. Снег за окном стал идти крупнее. На стекле расплылись огни, будто кто-то плеснул молоко в чёрный кофе.
— Можно… — я сглотнул. — Притормозите? Дом мой будет скоро. Я хочу посмотреть.
Он притормозил.
На втором этаже, за запотевшим окном, сидели мелкие. Дочка и сын. Светлые, тонкие, как и положено быть в этом возрасте. Играли в старое домино с картинками — такое было у меня в детстве. Помню слона с мухой, трактор, арбуз. Я тогда думал, что всё будет просто. Что если будешь хорошим — то всё и будет хорошо.
Дочка вдруг посмотрела в окно. Улыбнулась. Указала брату. Он тоже посмотрел. Они замахали руками, как будто узнали машину.
Такси мягко мигнуло зелёной шашечкой. Почти как будто подмигнуло. Они захлопали в ладоши.
— Можно… я выйду? — спросил я.
Таксист закрыл глаза. Не устало — нет. Просто… как будто тяжело выдохнул. И покачал головой.
— Они хотя бы поймут? — тихо спросил я. — Что я всё сделал, что мог?
— Поймут, — сказал он. — Но позже. Не беспокойтесь. А там, куда мы едем — там вообще все всё понимают.
Такси тронулось. Свет из окна становился всё дальше. Я смотрел до последнего, пока их силуэты не слились с огнями улицы. За окном снова были “Продукты”, снег, пустые остановки и мир, который, кажется, остался там, на подоконнике второго этажа.
И я понял. Больше ничего менять не получится.
И можно наконец… снять усталость.
Июль был невыносим. Горячие волны асфальтного воздуха, бьющего в лицо, могли свести с ума кого угодно, но я любил это лето. Казалось, что сам город иссяк, оставив на улицах лишь тех, кому некуда деться. Я стоял у забора старого сквера, едва прикрытого тенью лип. Здесь, под густым пологом зелёных листьев, ещё можно было дышать, пусть и тяжело, будто через марлю.
Я заметил её, когда она появилась из-за угла соседнего здания, неосторожно перескакивая через трещины на тротуаре. У неё был тот вид, что выбивает воздух из лёгких. Знакомый всем мужчинам взгляд наивной беспечности, сочетающийся с чем-то тёплым и лёгким.
На первый взгляд она могла бы быть подростком. Тонкие руки и колени словно выдали ранний, но бурный рост — тот момент, когда тело уже вытянулось, а внутреннее равновесие всё ещё в поисках. Шорты и бесформенная футболка с полузабытой эмблемой Микки Мауса подчеркивали её юность, особенно на фоне мягкого летнего света. Каштановые волосы, взъерошенные как вихрь, свободно ложились на плечи.
Но глаза — их я заметил прежде всего, как только она подняла голову... Это был взгляд, какой-то иной, не совсем детский, но и не вполне взрослый — тёмные, глубокие, как если бы за ними скрывалась дверь в намного более сложный мир. Её зрачки едва заметно сжались, когда она ловко подкинула и поймала книгу.
«Убик» Филипа Дика.
Её фигура замерла на миг — всего на мгновение, словно осознавая моё пристальное внимание. Но, не сказав ни слова и не оглянувшись, она плавно ускользнула под тенистые арки сквера, не снижая темпа.
Я долго стоял, бессмысленно глядя ей вслед. В воздухе всё ещё держался запах лип и та странная дрожь, что тихо шепчет: «Эта встреча была важной».
Прошла неделя, а я всё никак не мог выбросить её из головы. Я пытался убедить себя, что всё это было случайностью, что в моей жизни вообще и так много по-настоящему важных событий, чтобы стоило придавать значение такой мелочи. Но память упрямо держала её образ — выцветшую футболку, шаги, этот странный, недетский взгляд.
Второй раз я увидел её на станции метро. Она сидела на скамейке с наушниками, сосредоточенно копаясь в телефоне. Снова тот же непостижимый контраст: внешняя простота подростка и внутренняя сложность, мелькавшая во всём, от уголков губ до осанки. Я замер на другой стороне платформы, прячась за толстой колонной, как будто боялся, что она узнает меня.
Поезд вошёл на станцию. Поток воздуха разворошил её волосы, и она, подрагивая губами, принялась напевать что-то почти неслышное, глядя вдоль колеи. Тонкая, мимолётная мелодия, которая придавала её виду ещё больше странную реальность. Это была не та ритмичная агрессия, что слушают школьники в беспокойном ожидании. Нет, это выглядело как ритуал: напеть мелодию, закрыть глаза и в последний момент вскочить в двери вагона.
Я сделал шаг ближе, пока поезд шумел, скрывая свои движения. Хотелось заговорить, спросить, что это за песня, что она значит для неё, но не успел. Девушка пружинисто вскочила и направилась к вагону. Казалось, что во всём её поведении была нотка сознательной игры: «Если кто-то смотрит, то может разгадать».
Я шагнул в тот же вагон, оставаясь на расстоянии, достаточном, чтобы не привлекать внимания. Внутри меня горело противоречие: что я делаю? Она же подросток! Наверное…
Мы доехали до её станции — какой-то небольшой, безлюдной. Здесь на платформах царило абсолютное спокойствие, разбавленное только обрывками сквозняка. Она двинулась к выходу, быстрым и уверенным шагом, а я… Я должен был ехать дальше.
Но не смог.
Я почувствовал, что эта мелодия уже каким-то образом притянула меня к своей орбите. И прежде, чем я понял, что делаю, сам оказался в переулке, куда она свернула.
"Эй," — позвал я неожиданно для самого себя. Звук моего голоса разорвал мир вокруг, как гудок тепловоза в безлюдной степи.
Она остановилась и обернулась.
Обернулась не сразу. Было в её движении что-то… театральное, как будто я стал частью запланированной сцены. Шаги замедлились, пальцы на ремешке сумки едва заметно сжались, а взгляд... Взгляд оценивающий, неуловимый, словно она решала, стоит ли этот момент её внимания.
— Да? — Голос лёгкий, звонкий, почти непринуждённый, но с ноткой преднамеренного равнодушия.
Я запнулся. Все слова, которые уже готовы были сорваться с языка, растворились под её взглядом. Острое чувство неправильности накрыло меня, будто внутри что-то кричало: «Ещё есть время уйти».
— Ты напевала… — слова вышли сами по себе. — Что это за мелодия?
Она хмыкнула, чуть склонив голову, словно не ожидала такого вопроса.
— Не знаю. Просто что-то старое. — Она сказала это с таким лёгким равнодушием, которое казалось обманчивым. Это было отточенное безразличие.
Тишина повисла в воздухе. Я мог уйти, продолжить просто жить своей обычной жизнью и забыть про неё навсегда. Но вместо этого я неловко продолжил:
— Ты любишь музыку?
Она усмехнулась, бросив взгляд, словно изучала меня. Мне показалось, что я увидел тень понимания в её глазах — она знала, как действует на людей.
— А кто её не любит?
Лаконично, чётко. Снова почти детское, но это «почти» прожигало меня, путая все ощущения.
— Книги, музыка… Очень похоже на поиск.
Я не знал, зачем сказал это. Даже не понимал до конца, что именно хотел спросить. Её губы чуть дрогнули, и на долю секунды я подумал, что увижу на них улыбку. Но вместо этого последовал один единственный вопрос:
— А почему тебя это волнует?
Я растерялся. Её тон был одновременно искренним и холодным. Как будто она говорила: Я вижу тебя насквозь, и не уверена, стоишь ли ты моего внимания.
— Просто интересно. Я… люблю наблюдать, — выдавил я, почувствовав, как эти слова делают мой образ ещё более отталкивающим.
— Наблюдать? — Она задумалась на мгновение. — Интересно. Посмотрим, хорошо ли ты это умеешь.
Она отвернулась и пошла дальше. Я стоял в этом пустом переулке, глядя ей вслед и чувствуя, как эти несколько минут надломили меня больше, чем все мои предыдущие годы.
После того разговора я почему-то стал замечать её чаще. Не думаю чтобы она нарочно искала встреч, скорее, судьба будто уводила нас на перекрёстки друг за другом. Я не пытался говорить — уже не решался. Просто наблюдал.
Она оказалась странным существом, сочетанием резкости и плавности, как капля ртути. То сидела на ступенях какого-то старого театра, беззвучно листая толстую книгу. То внезапно проносилась мимо на стареньком велосипеде, улыбаясь чему-то невидимому. Её маршрут казался произвольным, а привычки необъяснимыми.
— Ты преследуешь её, — сказал однажды внутренний голос, когда я снова остался в тени, глядя на сквер, где она кормила воробьёв крошками чёрного хлеба.
Я сжал пальцы в кулак, злясь на самого себя. Это уже не было похоже на обычный интерес или мимолётную симпатию. Что-то в ней захватило меня — неуклюжий обман внешности, внутреннее изящество, неуместная лёгкость в её поведении, за которой ощущался надлом.
Мне стало очевидно: она это чувствует.
Одним из таких дней она заметила меня. Нет, не прямо в глаза, не так. Просто чуть дольше задержала взгляд, когда пересекла дорогу в двух метрах от меня, касаясь светофора тонкими пальцами, словно о чём-то размышляя.
И снова — эта полуподростковая простота. Шорты, лёгкие кеды с заправленными шнурками и расхлябанная сумка через плечо. Не зная её раньше, я бы поверил этому образу. Даже в голос, если бы услышал его ещё раз.
Но глаза… они выжигали суть, напоминая мне о её недетской тонкости и какой-то тишине внутри, способной затянуть в себя кого угодно.
Снова ветер унес её до того, как я решился хоть на слово. Она двигалась по переулку так, будто знала — я за ней не пойду.
И действительно, я не пошёл.
В тот момент я поклялся, что завтра всё кончится. Просто перестану думать о ней. Слишком много надумал, слишком увлёкся. Всё это ненормально.
На следующий день я зашёл в кофейню недалеко от дома, куда любил периодически заходить в поисках тишины. И… она была там. Её появление уже перестало казаться случайным. Она сидела за столиком у окна, не глядя на проходящих мимо, чертя что-то на обратной стороне помятого театрального билета.
Я собрал всю волю, чтобы просто сесть в другой угол зала, лицом к стене и сделать вид, что читаю. Заказал американо, который тут варили довольно сносно, и открыл развлекательный сайт с логотипом дог-маффина.
Она знала, что я здесь. Ощущение её взгляда на затылке было настолько явным, что я мог практически услышать её мысли. "Ты что, опять пошёл за мной, чтобы молчать?"
Не знаю, сколько прошло времени — десять минут или час, — но я всё же взглянул в её сторону. Неуловимое движение: она чуть повернула голову, будто специально ловила мой взгляд.
— Ждёшь кого-нибудь? — спросила она из-за своего столика. Вопрос едва слышный, но не привлекающий внимание, словно она была уверена, что я его ждал.
Слова подвисли в воздухе. Люди за соседними столами не замечали ничего, продолжая говорить вполголоса о своих мелких заботах. Лишь мы с ней ощущали это неловкое напряжение.
— Сидел тут... думал, — наконец, вымолвил я, и повернулся не понимая, как найти нейтральный тон.
— Думал обо мне? — Она склонила голову, добавив к вопросу лёгкую улыбку. Не насмешливую, но подначивающую.
— Я… А должен был?
— Должен был? — повторила она. Потом встала, толкнула стул так, что его ножки скрипнули об пол, и подошла ко мне, оставив своё сиденье пустым.
Она была слишком близко, и я ощутил лёгкий запах недорогих духов с оттенком ванили. Это простое, будничное мгновение вдруг загнало клин в мои внутренние противоречия. Я видел её близко, совсем подростка, но при этом все движения — точные, рассчитанные, как у взрослой женщины.
— Ты всегда так странно смотришь, — заметила она, наклонившись и указывая пальцем на мой телефон. — Как будто знаешь, что хочешь спросить, но боишься это сделать.
Я на мгновение застыл, но всё же отреагировал:
— Зачем спрашивать, если всё очевидно?
Она улыбнулась чуть шире. Затем, не дав мне ответить или додумать дальше, резко ушла из кофейни, словно дав мне новый повод загнать себя в круг этих мыслей.
Я остался сидеть на месте, глядя на её пустую чашку у окна и мучительно пытаясь найти ответ на её невысказанный вопрос.
Я хотел уйти раньше, чем кофейня закроется, но заказал десерт и остался до последнего. Всё время взгляд возвращался к её опустевшему столику. Казалось, тень её присутствия осталась там.
Я всё прокручивал наш короткий диалог, её слова, что звучали как вызов. А потом то, как легко она развернулась и исчезла за дверью. Зачем она вообще подходила? Играла? Проверяла, как далеко можно зайти, прежде чем я выкину её из головы?
— Может, в этом и смысл, — сказал я вслух, не сразу замечая, как бариста в излишне свободной футболке искоса посмотрел на меня.
Когда я наконец вышел на улицу, вечер накрывал город тяжёлым свинцом. Её следы, которые я, как всегда, искал скорее уже бессознательно, на этот раз терялись в обычных людских фигурах. Мне показалось, что я слышу её шаги где-то впереди, в потоке уличных фонарей, но это было лишь отражение моего желания.
Весь вечер прошёл под глухим, давящим впечатлением от её ухода. Неосознанно я стал снова выстраивать вокруг неё мифы.
— Может, это ловушка, манипуляция и расчёт — мелькнуло в голове.
Домой я вернулся поздно, весь будто внутри тягучего оцепенения. Закрыл дверь, бросил куртку на кресло и упал на кровать.
Но она казалась рядом. Воображение достраивало каждую её деталь с пронзительной чёткостью. Вдох — запах недорогих духов. Её шаг — лёгкий, но уверенный. Даже тепло её дыхания, которого не мог почувствовать, будто появлялось где-то рядом.
Я не выдержал. Схватил куртку и вышел снова, почти машинально. Без направления, без цели. Искал пустую улицу или заброшенный сквер, где можно было бы забыться, убежать от квартиры, где я был заперт, как в тюрьме, с мыслями о ней.
Так я блуждал часа два, пока не оказался в том самом месте. У старой набережной с липами, где стояла полуразрушенная арка, мы впервые пересеклись неделю назад. И она была там.
Она стояла спиной ко мне, на границе света и тени, в жёлтом свете фонарей. Моё сердце на мгновение заколотилось в груди так, словно я знал, что пришёл сюда не по своей воле.
— Ты следишь за мной? — спросила она, не поворачивая головы.
Мой голос застрял. Глоток ночного воздуха стал вязким.
— Нет, я…
— Тогда зачем ты пришёл?
Я всё же нашёл в себе силы ответить:
— Ты как знала, что я здесь окажусь.
Она рассмеялась, развернувшись медленно, почти как в тот раз. Теперь это был не смех, а что-то глубже — смешанное с пониманием, даже с интересом.
— Так чего ты ждёшь от меня? — бросила она, будто отбросив последний, самый прозрачный фильтр.
Я молчал.
— Ты сам на это пошёл, — сказала она, глядя на меня не как девочка, а как актриса, которая наконец-то снимает маску перед единственным зрителем.
Её осознанность ранила меня глубже, чем я был готов.
— Знаешь, — начал я, пытаясь вернуть себе равновесие, — ты странная.
Она приподняла бровь.
Её взгляд стал тяжелее. Пауза затянулась, пока свет старого фонаря за её плечом почти не потух, оставив в тени лицо и только искру в её глазах.
— А ты? — сказала она наконец, переступая шаг вперёд. — Что в тебе, кроме любопытства?
Я не ответил.
Она прищурилась, разглядывая меня, будто просчитывала реакцию.
— Ты ведь не видишь, да? — бросила она. — Смотришь на меня, на движения, даже на голос. Но ты ведь всё не так видишь, правда?
От этого холодного спокойствия я попятился назад, будто инстинктивно.
— Не то, чтобы не вижу, — я нервно улыбнулся и попытался отшутиться, — но не до конца.
— Нет? — усмехнулась она, вновь расправив плечи, как девушка на пороге взрослости.
Меня снова прошибло той мыслью, что слишком очевидна была эта неестественность её облика: подросток с хищным движением, детскость в жесте — а вес в каждом ответе. Всё это будто выдергивало основу и рушило те безвольные оправдания, которыми я пытался её укрыть для себя.
— Сколько тебе лет? — всё же рискнул я.
Она замолчала. Но молчание было таким тяжёлым, будто несло за собой цепочку следствий, которые мне вряд ли понравились бы.
— Ты всё ещё хочешь это знать? — она наклонилась вперёд, приближая своё лицо к моему, но не улыбаясь.
— Да. — сказал я серьёзно.
— Двадцать пять. — наконец ответила она, почти бесстрастно.
Моё сердце гулко застучало. Этот ответ был передо мной, как ответ, который был написан у меня на лбу, но я даже не пытался смотреть в зеркало. Всё это время я боролся с собственной моралью, не осознавая, что делал только хуже.
— Мне тоже.
— А если бы я сказала меньше? — спросила она вдруг.
Я хотел ответить. Понять, что ещё я здесь ищу. Но понял слишком поздно: её игра всегда оставалась её — и больше ничьей.
После её слов всё стало будто искажённым, как через грязное стекло. Тишина между нами плотнела, каждое движение ощущалось как тревожный сигнал.
Я шагнул назад, почувствовал под ногой неровность плитки.
— Но к чему были этот флёр таинственности? — выдохнул я, стараясь встретить её взгляд, но она больше не смотрела на меня.
— Кто тебе сказал, что я должна быть понятной? — Она отвернулась, касаясь пальцами потрёпанного рукава своего кардигана. — В мире, где тебя никто не видит таким, какой ты есть, нужно быть тем кто ты есть.
— Никто? — Это прозвучало больше, как вопрос к самому себе.
— Ни ты. Никто другой. Вы придумываете людей, их желания, их слабости. А реальность остаётся где-то на обочине.
Её голос потерял ту лёгкость, с которой она раньше разговаривала. Он теперь напоминал крик через сломанную рупорную трубу — тихий, но отчаянный.
— Так, когда же ты была настоящая? — выпалил я.
Она обернулась ко мне резко, неестественно резко. На секунду я подумал, что вижу в чертах лица взрослого человека — взгляд, полный злой усталости. Но нет, это был тот же подростковый образ, вырезанный из газетного клише: высокие скулы, губы без следа косметики, тусклая чёлка, которая падала на глаза, как невидимая занавеска.
— Я просто была, — сказала она. — Это тебе меня искать хочется.
Мне вдруг стало холодно. Её слова звучали, как приговор, но при этом словно приглашали в мир, где не нужно было решать, кто виноват и кем надо быть.
Она сделала шаг вперёд. Её силуэт, окутанный жёлтым светом от фонаря, будто растворялся в ночи.
— Ты пытаешься что-то понять, а нужно просто принять. Иногда вещи — не "почему", а "как".
Я почувствовал себя маленьким, растерянным перед чем-то огромным и неизведанным.
— Ты знаешь, — сказала она тише, почти шёпотом, — не всё бывает линейным.
Я хотел что-то сказать, оправдаться, но все слова застряли в горле. Она просто посмотрела на меня в последний раз и ушла, растворяясь в глубине ночи.
Именно в тот момент я осознал: нет ясного разделения. Ни она, ни я уже не знали, где заканчивается выдумка и начинается правда.
Я не помню, как добрался до дома. Улица превратилась в сплошную череду бликов света, а мысли, будто разбитое зеркало, хаотично отражали фрагменты разговора. Её образ стал липким, навязчивым, и не отпускал.
Закрыв за собой дверь, я не включил свет. Темнота успокаивала. Свалился на кровать, как есть, в одежде, усталость накрыла внезапно. Но вместо отдыха пришли сны.
Всё начиналось просто: мы стояли на пустой улице, никакого звука, только ветер. Она что-то говорила мне, но слова уходили в пустоту, обрывались невидимыми нитями, и я не мог уловить их смысл. Её лицо было бледным, кожа словно мрамор, и оно больше не принадлежало реальности.
Сон разрастался, превращая улицу в бесконечный лабиринт. Она шла впереди, но на расстоянии — вечно недоступна. Всякий раз, когда я пытался её догнать, пространство передо мной сгущалось: дороги менялись, исчезали проходы. Но она всегда была в центре зрения, оборачиваясь время от времени.
— Ты не успеваешь, — звучало в моей голове.
Эта фраза стала единственной связью с реальностью.
Проснулся я внезапно. Холодный пот стекал по спине. Воздух в комнате стоял, гулкий и пустой.
Тихий шорох. На секунду показалось, что он исходит из прихожей.
Я прислушался.
— Ты ещё не готов, — услышал я. Это был её голос, чёткий, но почти беззвучный, словно сама комната повторила его.
Я вскочил и замер. Всё тихо.
Обхватив голову руками, я понял, что в ней раскрутилась бесконечная спираль. Её силуэт, голос, даже манера держаться, всё говорило о том, что она превосходила меня в игре, которую я даже не осознавал.
Было ли это высокомерием? Или, напротив, её способ раскрыться перед кем-то, кто хотел увидеть её глубже?
Или я запутал сам себя, убеждённый, что ищу правду, а на деле цеплялся за загадку ради загадки?
Тяжёлый воздух ночи стал непосильным. Я вышел на балкон. Город казался чужим, каким-то изломанным, будто сны вскрыли его изнанку.
Балкон тянул прохладой, неся шорохи далёкого ветра и свист редких машин. Я закурил, не чувствуя вкуса дыма, а только слабое успокоение ритуала.
Её слова продолжали звучать в голове. «Ты не успеешь», «Ты не видишь». Что она хотела мне доказать? Или от чего предупредить?
Я смотрел вниз, на почти пустую улицу. Одинокая фигура проскользнула вдоль тротуара. На миг показалось — она, но это был лишь ночной прохожий. Мне вдруг стало неприятно находиться в закрытом пространстве.
— Это не я тут старший исследователь, — будто бы раздалось снова из моего разума, хотя могло быть лишь эхо странного самовнушения.
Я раздавил окурок об стену и вернулся в комнату.
На столе лежал блокнот, давно его не открывал. Внутри — схема, бесконечная загадка моей прошлой загадки: карты личностей прошлых людей, времён и личностей, когда-то строившиеся для поиска закономерностей в жизни. Там был вопрос, к которому всё сводилось: как люди формируют свои «маски»?
Я достал ручку и начал писать, сам не понимая, зачем.
«Она была как тайна. Вытканная между реальным возрастом, несовершенными жестами и безумной уверенностью в своих словах. Но куда она хотела меня привести?»
Мысли выходили на бумагу рваными линиями, без попытки связать в логичное повествование.
Я поймал себя на том, что начинаю рисовать. Маленькие силуэты, её фигуру с распущенными волосами. Взгляд её глаз.
И в какой-то момент осознал — мои руки двигались как будто по чужой воле.
Стремительно сорвав листок, я швырнул его в угол комнаты.
Нет. Хватит.
Но теперь эта мысль — про неё, про тайну — больше не уходила. Она уже не была загадкой личности, не была человеком. Скорее, была явлением, случаем, чем-то, что входит в жизнь, чтобы разрушить устоявшееся и открыть новый путь.
— Ты сам выбрал, — шепнул голос в голове, словно аккомпанируя тяжёлому стуку моего сердца.
Той ночью я больше так и не уснул. Моё сознание, будто заразившись чем-то чужим, пыталось удержаться за ускользающие образы её лица.
Только к рассвету я понял: с этой историей я не справлюсь. Я не смогу разобрать её на детали. И, возможно, она была нужна не для этого.
Она должна была оставить только след.
Осенний парк встретил его тихим шуршанием листвы под ногами. Густой запах влажной земли и увядающей листвы проникал в лёгкие с каждым вдохом, пробуждая лёгкую ностальгию. Дмитрий шёл неспешно, только что он поссорился с Вероникой, своей девушкой. Сегодня он опять оказался виноватым. "Красные розы, а не белые" — её слова всё ещё звенели в голове. Он хмурился, ощущая внутри растущее раздражение. "Да она даже прикоснуться к себе не даёт, хотя мы уже сколько гуляем..." Мысль преследовала его с тем же упорством, с каким белки гонялись друг за другом среди деревьев.
Возле старого, чуть потрескавшегося автомата для корма он остановился, высыпал горсть арахиса в кормушку. Пухлая белка, лениво оглядев орехи, развернулась и ушла. Дмитрий усмехнулся: "И ты тоже нос воротишь". Ему вдруг очень захотелось повстречать ту девушку, которая не будет делать мозги по пустякам. "Вот бы найти такую..."
Тогда он её и заметил. Девушка лет двадцати стояла неподалёку, почти сливаясь с окружающей обстановкой. Тёмные волосы падали на плечи, глаза — холодные, внимательные. Она улыбалась — улыбка тонкая, почти неестественная. Но что-то в ней было — не только настораживающее, но и манящее.
Он остановился, чувствуя странное облегчение. "Хотя с другой стороны я теперь, свободный человек" — мелькнуло в голове. Он выдохнул, будто сбросил груз. Подошёл ближе и, не колеблясь, предложил:
— Привет, я Дима, — произнёс он, решившись. Его голос прозвучал спокойнее, чем он ожидал, хотя внутри всё ещё оставалась нотка сомнения.
Девушка повернула голову, посмотрев на него внимательными глазами. Лицо её оставалось непроницаемым, но он заметил, как она слегка приподняла бровь. Тонкие черты лица подчёркивали её белую, почти фарфоровую кожу. Она не ответила сразу, но её губы тронула загадочная полуулыбка.
— А тебя как зовут? — решился спросить он, стараясь выглядеть непринуждённо.
Девушка медленно подвела указательный палец к губам, едва касаясь их, и ответила коротко:
— Секрет, — её голос прозвучал мягко, но было в нём что-то загадочное.
Дмитрий почувствовал лёгкий холодок по спине, но решил не придавать этому значения. "Ну и ладно", подумал он, почувствовав внезапную лёгкость. "Почему бы и не рискнуть?"
— Не хочешь прогуляться? — предложил он, посмотрев на неё внимательнее.
На удивление Дмитрия девушка кивнула, не сказав ни слова, и пошла рядом с ним. Он заметил, как её шаги были едва слышны, как будто она плыла над землёй.
— Так… расскажи, — начал он, чувствуя, что нужно чем-то заполнить тишину. — У тебя есть парень?
Девушка слегка покачала головой, а на её лице появилась та самая загадочная улыбка, которая ещё больше его заинтриговала.
— Нет, — коротко ответила она, и в её голосе прозвучало что-то, что заставило его усомниться в правдивости её слов, но он не стал развивать тему.
— Я недавно расстался, — неожиданно для самого себя сказал он, словно это само собой вышло наружу. — Мы были вместе недолго, но всё как-то не складывалось… Она всё время находила какие-то мелочи, к которым придиралась. Например, я подарил ей белые розы… думал, что это красиво. А она… сказала, что я специально купил их чтобы её унизить. Представляешь? Видимо знает, что не дорогие.
Он хмыкнул, понимая, как глупо это звучит, но уже не мог остановиться.
— А знаешь, что белые розы означают невинность? — вдруг произнесла девушка, неожиданно прерывая его. Её глаза снова внимательно уставились на него, но в уголках губ заиграла ироничная усмешка.
Дмитрий замер, не ожидая такого поворота. Он посмотрел на неё, слегка нахмурившись:
— И что? — переспросил он, не понимая, к чему это.
Она пожала плечами, всё так же тихо, почти шёпотом, но с какой-то скрытой насмешкой сказала:
— Для некоторых это может быть оскорблением... или даже обвинением.
Эти слова словно застали его врасплох. Он помедлил, обдумывая их, чувствуя, что не хочет возвращаться к этой теме. "Какие розы, какие капризы?" — мелькнуло в голове. Всё это теперь казалось таким мелким и неважным на фоне происходящего.
Дмитрий смолчал. Он уже не хотел возвращаться к этой теме. Розы, капризы, ожидания — всё это казалось таким мелким и неважным. Он думал о себе, о том, что ему всегда не везло с людьми. Даже когда он старался быть лучшим, всё равно оказывался виноватым.
— Я, наверное, слишком мягкий, — неожиданно для себя начал говорить он, почти не смотря на неё, — всегда уступаю. Вот и она... я ведь хотел сделать как лучше. Белые розы, подумал, что красиво... — он хмыкнул, понимая, как глупо это звучит вслух. — А ей — не понравилось.
Она лишь слушала, иногда кивая, но в её взгляде мелькало что-то странное, от чего Дмитрий чувствовал лёгкое беспокойство. Они шли по пустым дорожкам парка, деревья вокруг казались ещё более угрюмыми в сгущающихся сумерках. Воздух наполнился тяжёлым, чуть холодным запахом сырости от близкого речного канала.
Когда солнце совсем село, девушка неожиданно заговорила:
— Знаешь, однажды моя подруга встречалась с парнем. Он был милый, такой же как ты... дарил мелочи, приглашал на прогулки. А однажды, как сейчас, в парке, он начал к ней приставать.
Дмитрий насторожился, но не перебил. История вдруг захватила его внимание.
— Она отказала, — продолжала девушка ровным голосом, ни на мгновение не сбиваясь, — но он не остановился. Затащил её за кусты... — она замолчала, позволяя словам осесть в тишине.
Вдруг они оказались возле канала. Вода неподвижно отражала слабые отблески далёких фонарей. Дмитрий замер на месте.
— И откуда ты это знаешь? — спросил он, чувствуя, как внутри закипает тревога.
Она повернулась к нему и, не меняя выражения лица, сказала:
— Я видела. — Её губы вновь сложились в зловещую, ледяную улыбку.
Дмитрий вздрогнул, чувствуя, как на лбу выступил холодный пот.
— А что с ней стало? — едва выдавил он, уже догадываясь, какой будет ответ.
Девушка медленно повернула голову к каналу и указала в воду:
— Так вот же она.
Дмитрий машинально посмотрел туда, куда она показывала, и у него перехватило дыхание. В мутной воде плавало тело. Волосы девушки запутались в камнях, лицо было искажено, но не оставалось сомнений — это было тело.
Он резко отпрянул назад, споткнувшись и рухнув на влажную землю. Сердце бешено колотилось, заглушая всё вокруг. Дыхание сбилось, и несколько секунд он просто сидел, пытаясь осознать, что произошло. Оглянувшись, он увидел, что девушки уже не было. Ветер колыхал ветви деревьев, и, казалось, весь мир вокруг замер. Только чёрная гладь воды оставалась неподвижной, холодной и зловещей.
Позже, уже дома, Дмитрий лихорадочно листал ленту новостей на телефоне, не понимая, что именно искал, но чувство тревоги не отпускало. Вдруг один из заголовков, словно молнией, пронзил его сознание: "Тело девушки найдено в канале."
Он застыл, сжав телефон в руках. Открыв статью, стал читать, не веря своим глазам. Местная газета сообщала, что молодая женщина, после ссоры с парнем, оставила на шлюзах телефон и букет белых роз, написала прощальный пост в блоге и прыгнула в воду. Полицейские выяснили, что она была жертвой насилия, и это долгое время скрывалось. Уголовное дело возбудили на её бывшего парня, которого теперь подозревают в доведении до самоубийства.
Дмитрий медленно отложил телефон, чувствуя, как что-то внутри оборвалось. Холодный, липкий страх прополз по позвоночнику. Перед глазами вновь встала её фигура — спокойная, красивая, с той странной, почти насмешливой улыбкой.
"Белые розы..." — прошептал он вслух.
