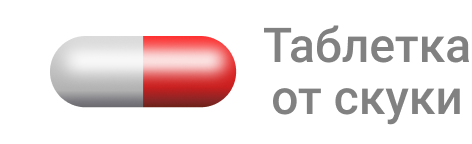Ответ на пост «Жизнь»
О заблуждениях и истине.
Евгений Боратынский
Что называем мы заблуждением? Что называем мы истиной? Я не говорю об истинах исторических, математических и нравственных; нет, я говорю о минутных соображениях разума, основанных на каких либо мнениях, почитаемых нами за истинные, вследствие которых мы так или иначе принимаем впечатления окружающих нас предметов. Я спрашиваю: почему одни впечатления или родившиеся от них мысли мы называем истинными, а другие ложными? Ежели в прекрасный вечер, смотря на заходящее солнце, последними лучами озлащающее зелёные холмы, полный тихим спокойствием засыпающей природы, я воскликну в минуту восторга: величественно, как прекрасно творение! — никто не подумает назвать заблуждением чувство, которое заставило меня изъясниться таким образом. Дитя ловит бабочку и, поймав её, восклицает: как прекрасна бабочка! как я рад, что поймал её! Мы говорим с чувством собственного превосходства: прелестный возраст! бабочка составляет твоё счастие; но придёт время, и заблуждение исчезнет!
Почему заблуждение? потому ли, что оно проходчиво. Но что же в мире не проходчиво? Природа в целом не существует для дитяти; в ней существует для него только бабочка. Нас восхищает природа, но бабочка уже для нас не существует. Много ли мы выиграли в обмане? и кто поручится, что мы теперь видим яснее, нежели видели прежде?
Молодость называют временем слепоты и заблуждений; самовластная старость умела определить её таким образом. „Юноши, — говорит нам ворчунья, — страсти ослепляют вас, мечты ваши украшают все предметы, воображение устилает цветами бездну, готовую расступиться под стопами вашими, но поживите с моё, и вы увидите истину без покрова“.
— Бабушка, — я бы отвечал ей, — твои уроки мне бы досадили в другое время, но сегодня я не расположен сердиться и тебе советую отвыкнуть от твоего брюзгливого ворчанья. Но послушай: глаза твои слабеют, а ты хочешь лучше меня видеть! чувства твои завяли, а ты хочешь лучше меня чувствовать! Как? потому что годы, лишив тебя зрения, накинули мрачное покрывало на окружающие тебя предметы, я должен верить, что они в самом деле одеты туманом! Как? потому что твоё воображение угасло, я назову мечтательными цветы, которые вижу при свете своего собственного воображения! Я не могу сомневаться в их существовании потому, что их вижу; а вижу потому, что имею хорошее зрение. Ты лишена и глаз и чувства; займи их у меня, моя милая, и ты почувствуешь всю ветреность твоих заключений.
— Я думала, как ты, в твои лета, — мне отвечает старушка. — Опыт разрушил мои воздушные замки; годы отнимают глаза, но делают зорким рассудок.
— Я не знаю, что ты понимаешь под словом рассудок. Я думаю, что это не что иное, как то чувство, которое вследствие приобретённых мною понятий, через различные впечатления, заставляет меня видеть предметы в том порядке, в каком я в сию минуту их вижу. И могу ли я их видеть иначе? Могу ли отделять от себя мечты и страсти, составляющие необходимую часть самого меня? Ты мне говоришь об опыте; но я не знаю ещё, что такое опыт. Он или прибавит что нибудь к существу моему или уничтожит некоторую часть его: в обоих случаях я перестану быть самим собою — я переменюсь один, предметы не переменятся. И зачем мне променять мечты свои на твой рассудок? Ты сказала в какой то книге: „Суди о человеке по его поступкам“. Нельзя ли сказать тоже: „Суди о правилах по их последствиям“? Суди же, моя радость: ты печальна, а я весел; ты подозрительна, а я доверчив; ты сердишься и кашляешь, а я смеюсь и напеваю шутливую песню; я умнее потому, что счастливее.
— Но было время, когда ты строил карточные замки, забавлялся куклою, снаряжал бумажные корабли: игрушки для тебя уже стали игрушками; скоро и мечты для тебя будут мечтами.
— Не спорю! Но со временем я и сам умру; всему есть границы; но не замки из мраморных превратились в карточные, не корабли из деревянных превратились в бумажные; я один лишился чувства, которое или меня обманывало, или заставляло лучше видеть. По крайней мере, наслаждения были истинными.
— Ты нечаянно согласился, что есть предметы, существующие для одного только воображения; следственно, мечтательные.
— Мечтательные потому, что существуют для одного только воображения! Забавное заключение. Почему доверять одному чувству более, чем другому? Звуки существуют для одного только слуха; следственно, звуки не существуют! Неужели природа делает что нибудь без цели?
Воображение есть такое же свойство, как и другие свойства. Ты скажешь, что оно изменяет нам прежде, нежели другие способности; что опыт разрушает призраки его. Согласен; но мы несколько позже лишаемся зрения, слуха, иногда и разума! Не всё ли равно лишиться физически способности видеть или метафизически — способности воображать? Ты говоришь, что меня обманывают мечты мои: я вправе сказать, что тебя обманывают твои умозрения. Послушай: детство забавляется мечтами, старость забавно важничает мнимою своею мудростью, и — каждый играет свойственною ему игрушкою.
Я несколько отдалился от своего предмета; по крайней мере, вы видели, что невозможно заставить человека переменить свои мысли, не заставив его самого перемениться, т. е. что нибудь потерять или что нибудь приобрести. Остаётся определить: в каких точно случаях мы приобретаем и в каких лишаемся! Я ничего не утверждаю и потому сделаю только несколько вопросов.
Что вы почитаете вернейшим способом к отысканию истины? Рассудок и опыт. — Согласен. Но положим, что вы имели одни только горестные опыты; что в детстве вы зависели от своенравного наставника; что в юности вам изменила любовница, изменил друг, изменила надежда; что в старости вы остались одиноким и печальным. Как вы опишете жизнь? Детство для вас будет временем рабства и бессилия; юность временем мятежных снов и безумных желаний; старость — торжественным сроком, когда является истина и с насмешкой погашает свечу в китайском фонаре воображения.
Относительно к себе вы совершенно правы; напротив, в детстве я ничего не знал, кроме радостей: добрая мать была мне снисходительною наставницею. Теперь имею весёлых любящих друзей, всею душою мне преданных; быть может, буду ещё иметь подругу милую и верную; надеюсь, что старость моя согреется воспоминаниями о прежней разнообразной, полной жизни, что и в преклонных летах сохраню ещё любовь к прекрасному, хотя не так живо буду его чувствовать, что сквозь очки ещё с наслаждением буду смотреть на румяную молодость, а подчас и сам буду забавлять её рассказами про старое время.
Положим, что такова будет жизнь моя; не правда ли, что, подобно вам, руководствуясь рассудком и опытом, я сделаю заключение, совершенно противное вашему, и не будем ли здраво судить каждый в свою очередь?
Ежели ветреная молодость всё украшает, всё очаровывает своим воображением, брюзгливая старость не слишком ли всё очерняет своею холодною недоверчивостью, и есть ли минута в жизни, в которую мы совершенно чужды того или другого предубеждения? В каком случае мы приобретаем и в каком лишаемся? Истина (ежели в самом деле есть какое то отвлечённое благо, которое мы называем истиною) не должна ли быть некоторым верховным наслаждением, способным заменить нам все прочие мечтательные, или лучше сказать, недостаточные наслаждения? Но мы видим совершенно противное. Мы теряем, удостоверяясь в том, что привыкли называть истиною; мы уважаем аксиомы опыта и между тем часто сожалеем о прелестных заблуждениях, которые некогда составляли наше счастие. Старость имеет только то преимущество перед молодостию, что приходит после; она ко всему равнодушна, потому что не имеет страстей; она видит вчерне все предметы, потому что неспособна их видеть иначе; она из всего выводит печальные заключения, потому что сама печальна и, не быв ещё лишена способности мыслить, должна присвоить себе какие либо мнения. Но кто поручится за их беспристрастие?
Мы называем старость временем благоразумия и мудрости. Но положим, что она же со своею опытностию будет первым периодом нашей жизни; что за нею последует мужество, юность и наконец детство. Старец, чувствуя новую жизнь, проливающуюся в его сердце, новые ясные мысли, которые мало помалу освежают его голову и разглаживают морщины на челе его, — не заключит ли довольно правдоподобно, что существо его начинает усовершенствоваться? Он слышит голос славы и честолюбия, летит на поле брани, спешит в совет к согражданам; он снова знакомится с прежними мечтами и думает: я опровергал рассудком то, что теперь ясно понимаю посредством страстей и воображения; я заблуждался, но время открывает истину. Приходит и пора любви: он видит прекрасную женщину и удивляется, что до сих пор не примечал, что существуют женщины; он во многих предметах усматривает то, чего не усматривал до сей минуты. Он вспоминает прежние свои предубеждения и думает: Безумец! Я хотел понять холодным разумом то, что можно только понять сердцем и чувством: ясно вижу своё заблуждение. Наконец в детстве, пуская мыльные пузыри, он скажет, увидя за книгою старика, нового жителя мира: посмотри, это гораздо полезнее твоей книги. В заключениях чудака, переходящего от старости к детству, вы найдете почти более логики, нежели в заключениях отрока, переходящего от детства к старости.
Поэтому нет истины? Кто вам говорит что нибудь подобное? Но истина, не есть ли она до крайности относительная? Каждый возраст, каждая минута нашей жизни не имеет ли собственные, ей одной свойственные истины? Предметы, нас окружающие, не так же ли относятся к нашему рассудку, как солнечные лучи ко внутреннему расположению наших глаз? Не безумно ли отречься от приятного чувства потому только, что другие называют его заблуждением? Не безумно ли называть человека безрассудным потому только, что поступки его нам кажутся безрассудными? Не странно ли писать рассуждение об истине, когда доказываешь, что каждый из нас имеет собственные свои истины?