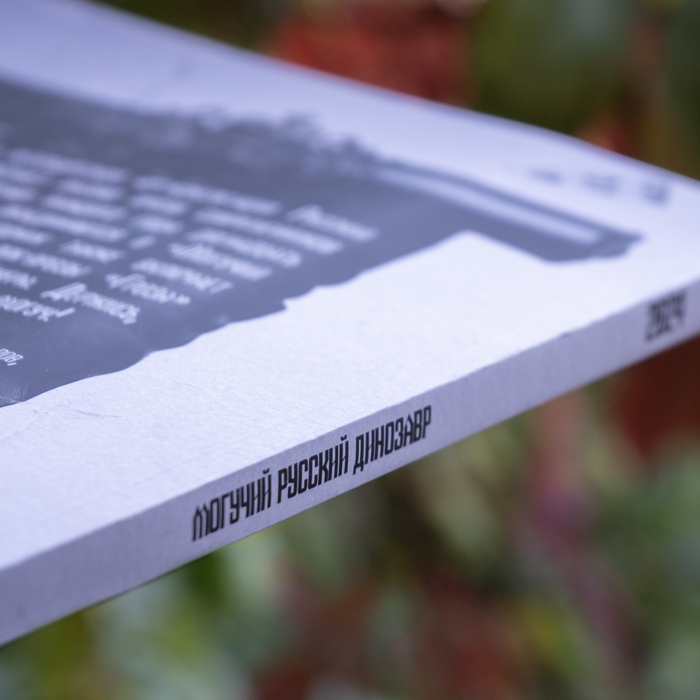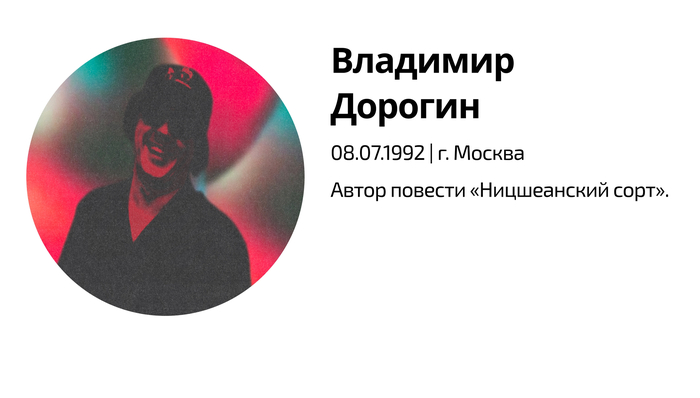Порванный рэгтайм | Юрий Меркеев
Два закона должен уяснить себе каждый: времени нет, а есть вечность. И сердце неспособно долго сопротивляться уму.
Есть в тебе вера или нет её, хочешь прожить с радостью в душе на фоне всеобщего безумия — вдолби в себя эти правила. Если нет времени — значит, некуда спешить. В спешке всякая мысль скрадывается, в покое — расцветает. В спешке не замечаешь образов, потому что всё летит мимо тебя. А мимо — все мы знаем, что такое мимо. Главное — не унывай.
Только притворившись безумцем, можно оставаться в здравом уме в огромном сумасшедшем доме.
— Раздевайся. И трусы снимай, — говорит санитарка приёмного покоя. — Я тебя смотреть буду.
— Зачем меня смотреть? Я и без того весь на виду.
Санитарка молодая, весёлая, опытная. Улыбается в усики, которые покрывают верхнюю губу. Глаза чёрные, с искрой. Движения быстрые. Уверенные. В белом халате она красивая. Важно, как человек одет. Очень важно. Форма, влияющая на содержание.
— Ну точно по адресу заехал! — смеётся она. — Мне до твоей души дела нет. Душой заниматься на отделении будут. Врачи. А у меня инструкция. Прежде чем оформить, я должна осмотреть тело. А вдруг у тебя инфекция? Тиф какой-нибудь или сифилис? Понял? Ты думаешь, мне приятно всех осматривать? Инструкция.
— Угу, — киваю я и медленно снимаю с себя одежду. И слегка краснею.
— Что «угу»? Думаешь, нравится?
— Нет, что ты. Я об инструкции. Знаю, что это. Очень хорошо знаю.
— Ладно, не обижайся.
Ванная комната — три на три. Белый кафель цветёт чернотой и зеленью. Ванна ржавая, у сливного отверстия сидит тёмный жук. Не обращает на нас внимания. Умывается, наверное. Усики раскинул — хорошо ему здесь. В стене пробоина с решёткой, как в казематах. Наверное, раньше в этих подвалах был острог. Застенки уж больно прочные. И жук такой старый и наглый — точно из поколения тех жуков, что были тут до сотворения мира.
— Разделся? Теперь в ванну шагом марш!
— Я мылся, — пытаюсь протестовать. — Меня ж только из казармы привезли. И жук здесь.
— Ты что, жука боишься?
— Боюсь. Боюсь его испугать. Шагну в ванну, а он испугается.
— Не испугается. Он всякого навидался. Мне тебя удобнее осматривать будет. Залезь и плавно повернись во все стороны. Руки раскрой, покажи подмышки. — Голос её певучий и ласковый. — Не стесняйся. Так-так-так. Повернись спиной. Теперь обратно. Так-так-так. Мошонку подними. Одевайся. Кожа чистая. Руки только все в шрамах. Наркотики? Кололся в руки?
— Нет. Кислыми щами в пятку.
— Артист, — смеётся девушка, и от её смеха и абсурда происходящего мне становится спокойно и хорошо. Когда находишься внутри абсурда, нельзя протестовать: будет больно. Так же, как биться головой в закрытую дверь. А вот когда голова не чувствует удара при столкновении, абсурд внутренний сопрягается с абсурдом внешним, и тогда легко. Мне стало легко от собственных шуток, жука в ванне и девушки в метре от меня. В иных обстоятельствах мне бы, возможно, стало «больно» — стыдно то есть. Я захотел бы выпрыгнуть из своей кожи и убежать — а это, ей-богу, больно. В сумасшедшем доме стыд — нелепость.
Теперь между нами образовалась особенная связь — она меня рассмотрела под микроскопом инструкции. И смеётся. А я верчусь перед ней, как барашек на вертеле. Психологи, наверное, знают, в чём тут фишка. Она меня видела со всех сторон в мельчайших деталях. Я смог узреть только её весёлые глаза и губы с пушком. Мне остаётся мысленно дорисовать то, что ушло за кадр. В жизни много недоделок. В этом особая прелесть странных минут.
— Надевай больничное. Твои вещи на склад пойдут. Ты не шути, когда тебя психолог расспрашивать будет. Вопросы глупые задавать начнёт. Типа, чем луна от денег отличается? Или дерево от полена. Отвечай серьёзно. А то поставит тебе слабоумие. Тебе это надо?
— Не знаю, — отвечаю я, облачаясь в выцветшую вельветовую пижаму. — Трусы свои оставить можно?
— Можно. Только ну-ка, проверю резинку. Не сунул ли туда что-нибудь запрещённое?
— Угу, бутылку водки и две гранаты. А ещё предмет интимного назначения.
— Артист! — хохочет санитарка. — Ладно, трусам твоим верю. Одевайся. Пойдём со мной на первое отделение.
— Спасибо, — неожиданно вырывается у меня. — За трусы спасибо.
— Спасибо? Хм… Странный. И зачем к нам? На первое отделение сумасшедших привозят. Спасибо сказал… зачем-то. За трусы. Странный какой-то.
Я улавливаю, что девушка краснеет.
Значит, не всё так просто, как кажется.
Пока санитарка сопровождает меня на первое отделение, мы знакомимся. Любопытно. В приёмном покое такого добра, как моя персона, хватает. Я не о предметности. Я о минутах. Интересно, что бы я испытывал на её месте? Инструкция. Теплоту в районе солнечного сплетения? Или брезгливость? Точно не брезгливость. Работа изменяет существо времени, наполняет минуты эмоциональным напряжением. Чем сложнее человек, тем тоньше переживания. Жалость вплеталась бы в каждое подобное мгновение. А жалость — это минное поле для любых страстей. Вспыхнуть, взорваться можно в секунду.
Тишина. Только сверчки где-то поскрипывают.
Долго идём по коридорам внутреннего лабиринта. Из приёмного покоя через потайную дверь. Потом какая-то арка, снова переход, как в московском метро, только без людей, и, наконец, предбанник. Звонок в дверь. Появляется медсестра — крепкая, круглолицая, с перманентной улыбкой, как будто где-то в районе ушей зацепили кожу прищепками. Глаза узкие, губы надутые. Либо красавица, либо чудовище. Одно из двух, в полутьме не различить. Лицо грубое — в атмосфере абсурда такое можно принять за лицо душевнобольного, или будто оно из-под скальпеля пластического хирурга. Предпочитаю последнее. А там станет ясно.
— Кого привела, Светка? — Глазки становятся узенькими, как лезвия бритвы.
— Вроде армейский. Новичок. Наркотики под вопросом.
— Зовут как?
— Андрей Соловьёв.
— Ну, пойдём, Андрей, в наши пенаты. Дурно станет — постучи ко мне в сестринскую. Успокоительное дам.
Света передаёт сначала папку с историей болезни — французский бутерброд — обложка насквозь просвечивается. Потом из рук в руки — меня, такого же худого, как история болезни. Худого и лысого. Вельветовая пижама болтается на мне, как колокол. Я, стало быть, язычок музыкального инструмента. Забавно всё. Могу подавать невидимые сигналы миру.
Девушка, рассмотревшая меня под микроскопом инструкций, растворилась.
И вот я внутри новой жизни — странной, немного страшной, таинственной. Медсестра показывает койку в палате, уходит. Сосед слева что-то бормочет и выгибается на спине, справа бородатый человек раскачивается маятником. Дверей нет. В коридоре шумно. На меня никто не обращает внимания. Вечер. Фиолетовая лампа под потолком окрашивает безумие в акварельные тона.
Расправляю койку — на матрасе жук. Чувствует себя старожилом. Может быть, он выполняет функцию тайного наблюдателя и слушателя? Вот было бы классно общаться через него с внешним миром. «Веду трансляцию из сумасшедшего дома. Меня исследовала молодая девушка по имени Света, заглянула под мошонку, спросила, не прячу ли я там ядерное оружие. Ха-ха-ха! Конечно, прячу. Все мы маленькие ядерные станции. Не знаем только ключа активации. Может быть, ключ в мошонке? В этом что-то есть. Приём! Приём!»
Чувствую, что за моей спиной кто-то стоит. Резко поворачиваюсь. Лысый жилистый темнокожий человек с татуировкой на лбу в виде трёх шестёрок. Рисунки на теле повсюду. В глаза бросается узкая лобная доля. Скорее всего, он тут главный. Потому что без пижамы, в спортивных штанах и майке без рукавов. Лицо бурое, как у покойника. Белки глаз жёлтые. Зубы через один гнилые.
— Ты кто? — спрашивает носитель знака антихриста.
— Человек, — выдыхаю я не без страха.
Очевидно, мой ответ его удовлетворяет.
— Не на судебке?
— На комиссии из военно-окружной.
— Колёса есть? Сигареты? Хавчик?
— Ничего нет, кроме пижамы и желания свалить отсюда поскорее.
— Ладно. Вопросы будут — ко мне. Кликнешь Витьку Тамбовского. Это я.
После всех потрясений сегодняшнего дня хочется спать. Но знаю, что спать не буду. Потому что выдернули меня из привычного распорядка: из ежедневных пайков опиумного раствора, из радости предвкушаемого расставания с училищем. Потому как рапорт об увольнении давно написан. Но просто так «уходить» меня не хотели. Выдернули, чтобы отравить мою жизнь. Чтобы узнал, что есть места хуже казарменной неволи. Однако я спокоен: мир катится в пропасть. Остановить поезд всеобщего безумия невозможно. Хочу выпрыгнуть из состава на ходу и погулять на свободе, вдоволь надышаться. Нетрудно пережить двадцать один день в аду, зная, что времени нет, а есть вечность. Понимая, что сердце не может долго противиться уму. К приказам хочется добавить химии. Стучу в медсестринскую, получаю обещанные пилюли. В ярком свете ламп старшая медсестра кажется красавицей. Вероятно, от природы такая — с полными губами и глазами раскосыми. Никакой пластики.
Пилюли пошли хорошо, плавно — не заметил, как погрузился в сон.
И какое мне дело до жука на матрасе? Главное — отрешиться от соседа, который выгибается всё сильнее, и от этого тревожно. Койка лязгает, а я тихо уплываю в мир сновидений.
Санитарка приёмного покоя молодец. Предупредила о вопросах, которые задаст психолог. Иначе я потерялся бы. В сумасшедшем доме теряться нельзя: можно нарваться на диагноз, который станет сопровождать пожизненно.
Утром санитар ведёт меня теми же потайными ходами в кабинет психолога. Слева двери приёмного покоя.
За столом сидит женщина лет сорока в белом халате. Красивые очки, тонкая шея, стрижка под мальчика, голос грубоватый, прокуренный. Нравятся мне такие психологи. Есть в них что-то помимо инструкций.
— Почему наркотики? Третий курс училища. Через два года выпуск. Моря. Романтика. Почему?
— Наркотики? Понятия не имею. Никогда не употреблял и не буду. Они же мозги выедают и печень. Вы разве не знаете? А я не хочу стать инвалидом в двадцать лет. Следы от уколов витаминами. Качались в спортивном зале с курсантами.
Психолог не может сдержать улыбку, глядя на мой худосочный вид.
— Понятно. Врать умеешь. Теперь речь о тебе. О будущем твоём. Ответишь на некоторые вопросы теста?
Приятно, что психолог легко перешла на «ты».
— Готов.
— На ответ даётся две-три секунды. Отвечаем чётко, уверенно, односложно. Встречных вопросов не задаём. Понятно?
— Да.
— Чем дерево отличается от полена?
— Живая-неживая природа.
— Чем луна — от сапога прапорщика?
— Ничем. Оба сверкают.
— Чем трактор отличается от лошади?
— Живая-неживая природа.
— Чем мужчина отличается от женщины?
— Мужчина глупее и рожать не может.
— Что такое красота?
— Свойство материи.
— Что такое безобразие?
— Свойство красоты.
— Столица Африки?
— Африка — континент.
— Столица Бразилии?
— Буэнос-Айрес.
— Кем ты хочешь стать в будущем?
— Человеком.
Психолог взяла со стола картинку с какими-то кляксами и попросила сказать, что я вижу.
— Женщина с распущенными волосами. Две женщины. Мужчина. Женщина в лодке. Женщина на лошади. Ёжик. Ёжик. Большой ёжик. Обнажённая женщина.
— Достаточно. Сейчас на отделение. Нарушений психики я не нахожу. Но двадцать один день провести у нас придётся. Родители знают, где ты находишься?
— Они думают, что я в казарме.
— Можешь написать им письмо и рассказать то, что посчитаешь нужным. Письмо я отправлю сама. Обещаю. Жалобы на обстановку есть?
— Только на жука в постели.
— Какого жука?
— Большого, чёрного, наглого.
— Это не жук. У нас тараканы. А наглые они, потому что находятся под действием препаратов, с помощью которых их пытались вывести.
— Как пациенты?
Психолог отрывается от бумаг и смотрит на меня пристально. И снова улыбается.
— А ты шутник. Это хорошо.
Время течёт бесконечно, но я об этом уже знаю. На календарь не смотрю. Атмосфера сумасшедшего дома могла бы заморозить меня, превратить в ископаемое, похожее на жука, если бы не мысли. Единственная защита от хаоса и безумия — мысли. О чём я только не думал, забираясь после отбоя под грязное одеяло из верблюжьей шерсти. О ком не мечтал, просыпаясь рано утром от лязга кровати соседа, который, кажется, источал бешеную энергию из резких изгибов тела. Он не спал, не ел, не ходил в туалет, не говорил — только вырабатывал энергию. И теплоту, конечно. Всё-таки энергия движения. От него шёл резкий, словно звериный, запах. Не знаю, что у соседа в голове: представляет себя вечным двигателем или маленькой электростанцией? Почему бы не подключать больных к динамо-машинам, чтобы вырабатывать электрический ток?
Я защищаюсь мыслями. Они незаметны, но как эффективны! Без мыслей я впал бы в хандру. Тело болит. Отрываешься от наркотиков — тело начинает выздоравливать через ломку. Выздоровление начинается с грубых вещей, и первое — это удовлетворение запросов тела. Думаю о Светлане, которую несколько раз мельком видел на отделении. Не просто думал, а предавался мечтам. Девушка улыбалась. Как-то раз принесла пачку сигарет и чай. Это раскрашивало мои мысли.
Тяжелее ночами.
— Ну что, курсантик, плохо тебе? — подходит ночью старшая медсестра и садится на край кровати. — Ты скажи мне — я принесу снотворное.
И улыбается ласково и фальшиво. Пахнет от неё медикаментами и женщиной. Она видит, что я не могу уснуть.
— Мне хорошо, — говорю я через силу и улыбаюсь в ответ. Потому что знаю: если попрошу снотворное, то это будет означать косвенное признание ломки и штамп в военном билете при выписке: «Наркомания опийного ряда».
Нетрудно догадаться, что на отделении наблюдают за всеми, тем более за первичными больными. Койку мою вынесли из палаты в коридор. Больница переполнена.
— Ну, если что, скажи, — снова ласково улыбается медсестра и поглаживает меня по руке, истыканной иглами.
— Мне хорошо, — упрямо твержу я. — Колол витамины. Никаких наркотиков не было. И ломки нет.
Ночью и в нормальном состоянии заснуть невозможно. Лежащие на полу больные занимаются самоудовлетворением, стоит треск и шёпот. Верблюжьи одеяла то и дело колыхаются на полу волнами, как на море. Санитары смотрят на всё это снисходительно. Спят они у выхода в виде двойных дверей.
Туалет просматривается через откидное окошко, поэтому покурить или попробовать выбросить «конёк» через решётку на волю, чтобы кто-то из знакомых привязал шприц, рискованно.
Я терплю.
Днём спать не получается. Пациенты ходят цепью по узкому коридору взад-вперёд и тайком едят чай всухомятку. Заводить знакомство с кем-то из них рискованно. Медсестра тут же узнала бы, что мне нужно. А мне нужен чистый военный билет.
* * *
Первую неделю я кое-как перетерпел. Притворился здоровым. Хотя и холодный пот градом, и общая слабость, и зрачки величиной с океан.
И снова — ночное искушение: ласковая медсестра, поглаживающая руку.
— Ну, если тебе, курсантик, плохо, пойдём в процедурную. Я тебе вместо таблеток укол сделаю. Поспишь немного.
— Мне хорошо.
Наверное, в фиолетовом свете я выгляжу ожившим мертвецом в морге.
Днём умер какой-то старик-шизофреник, и я прошусь помочь вынести его в пакете на улицу. Хоть какое-то дело, свежий воздух, вольная жизнь. Пусть и на пять — десять минут.
Медсестра строго поджимает губки.
— Тебе нельзя. Ты находишься на экспертизе. Вот если бы мы с тобой сели и поговорили… И ты рассказал правду, тогда…
Я отворачиваюсь и вливаюсь в живую сумасшедшую цепь. В конце концов, силы можно израсходовать на пустое движение. Скоро я должен заснуть естественным образом.
* * *
Однажды ночью ко мне подослали шпиона, который предложил сильный препарат «ф-л». Молодой паренёк в татуировках не должен был вызвать недоверие. Тем более предложил за деньги. Несколько сотенных купюр я успел припрятать в резинке трусов, когда просил санитарку приёмного покоя оставить на себе хоть нижнее бельё.
Договорились совершить сделку ночью.
И вот я держу в запотевших ладонях три сотни, ожидая торговца. И он пришёл. Сердце возликовало. Кажется, я смогу продержаться и выйти без статьи.
Во время обмена денег на «колёса» неожиданно появляется медсестра. Шпион тут же удирает. Медсестра просит меня пройти с ней в процедурный кабинет. Я иду за ней, как барашек на заклание. Успел закинуть два колеса. Меня повело сразу. Глаза начинают слипаться. Остальные колёса я выбросил в темноту.
В процедурной холодно и пахнет карболкой.
— Ну что, начнём нашу беседу? Итак, сегодня ночью ты приобрёл у пациента М. упаковку снотворного. Так или не так?
Меня ведёт, как пьяного.
— Что? — спрашиваю я, зевая. — Спать хочу.
— Ты должен рассказать мне всё как было. Потом расписаться. И спать. Да?
— Нет, — отвечаю я, чувствуя опьяняющую силу колёс. — Я не наркоман. И наркоманом никогда не был. В училище мы кололи себе витамины для мускулов.
Она не выдержала:
— Иди. А то рухнешь, атлет, прямо тут, в процедурной.
* * *
Перед выпиской меня снова ведут к психологу. Кабинет находится в недрах больницы, рядом с приёмным покоем. По лабиринтам меня ведёт санитар Вася, которому я заказал сигареты.
В крохотном помещении сидит женщина в тёмных очках и что-то пишет. Василий усадил меня на стул, сам удалился. Женщина долго пишет, очень долго. Меня словно нет. Да мне на это было наплевать. Ради развлечения я внимательно разглядываю психолога. Во-первых, это другая — не та, что допрашивала меня об отличии луны от армейских ботинок. Во-вторых, она сидит за столом в коротком халате, а под столом круглятся аппетитные ноги в тёмных чулках, и туфельки слегка сняты — для удобства, вероятно. Над её головой с короткой стрижкой витает нимб от подсветки зарешёченного окна.
Я не люблю долго сидеть без дела. Прикрыл глаза и стал считать розовых слонов. Если после сотого слона она будет продолжать писанину, я спрошу, зачем я тут нахожусь. На восьмом десятке слонов женщина задаёт мне почти тот же вопрос, что и первая:
— Как вы думаете, зачем вас сюда привезли?
— Старшине роты нужно было найти козла отпущения.
— Это как?
— Я уже рассказывал. Нам должны были открывать заграничные визы, а я оказался тем самым козлом, за которого старшина получил поощрение.
— То есть наркотики вы не употребляли?
— Нет.
— Просьбы есть?
— Да. Я хочу читать. Что-нибудь, если можно, из журналов зарубежной литературы. Я видел связанную стопку в красном уголке.
— Хорошо. Я попрошу врача. Вам дадут журнал.
Василий снова ведёт меня на отделение. Санитар измождённый, крупный, с красным лицом с маленькими безразличными глазками, в которых ничего, кроме желания выспаться и сорвать с кого-нибудь куш.
— Сигареты — завтра, — вяло говорит он, будто понимая мои мысли. — Опять моя смена. Серёга запил.
* * *
Из коридора меня переселили в палату на место умершего старика. В палате четверо. Один высокий худой студент, который каждую минуту отплёвывался, — будто бы год назад укусил кроличью шапку. Вроде не псих. Но тип неприятный. Разговаривать не хочет и на всё плюёт в прямом смысле. Другой лежит на койке и постоянно изгибается, санитарка убирает за ним экскременты. Не встаёт. Не воспринимает реальность. Наверное, шизофреник. Третий — оперный артист с повязкой вокруг шеи. Молчит. Если он сорвёт повязку и запоёт, произойдёт ядерный взрыв и все погибнут. В своём роде гуманист. Четвёртый — поэт Чагин, худенький скромный мужичок в очках, которого я бы в обычной жизни принял за бухгалтера. Ожидает перевода в спецбольницу тюремного типа. Сидит на кровати и усердно строчит карандашом стихи в тетрадь. Трудно представить, что год назад в голове «бухгалтера» затикала мина, в носу появился трупный запах, Чагин соорудил обрез, пошёл в магазин и снёс там дробью полголовы продавца-кассира. Зачем? Известно одному Чагину.
Сигареты и чай в отделении — самая большая ценность. К чаю всухомятку я равнодушен, без курева не могу.
Когда больные ходят взад-вперёд по коридору, кто-то из них вдруг сворачивает в сторону туалета. И тогда срабатывает стадная интуиция: вслед за ним сразу шли три-четыре человека. Я в их числе. Мы знаем, что человек будет курить. Рассаживаемся на корточках, опираясь тапками на холодные плитки туалета. Обладатель сигареты важно снимает штаны, устраивается удобно на прессованных подножках очка, закуривает и делает свои дела. Потом передаёт окурок ближайшему соседу. Тот делает одну-две затяжки и передаёт другому. Сигарета выкуривается до основания.
Когда Василий принёс мне «Приму», королём туалета на время стал я.
* * *
За несколько дней до выписки я уже неплохо чувствую себя физически. К тому же доктор выдал мне для чтения журнал иностранной литературы, в которой был интереснейший роман «Рэгтайм». Я углубляюсь в чтение, и всё окружающее от меня временно уходит. Я живу прочитанным. Читать перед выпиской из психушки «Рэгтайм», друзья, — это невероятное удовольствие.
Но что-то не задалось с моим удовольствием, или «Рэгтаймом», или с поэтом-убийцей Чагиным, который неожиданно подходит ко мне и тянет журнал на себя.
— Отдай, — строго говорю я, понимая, что в его действиях для него нет абсурда, а есть какая-то скрытая логика. — Отдай, Чагин, я тебе завтра дам почитать.
Шизофреника перекосило. Что-то не то я сказал, или в голове у него снова затикала мина. «Бухгалтер» с остервенением тянет свою часть журнала, и тот распадается на две половины. «Рэгтайм» порван. Вбегает санитар, оттаскивает Чагина, который бьётся в истерике, продолжая сжимать свою часть «Рэгтайма», рычит, как зверь, но роман не отдаёт. На шум прибегают доктор и медсестра, спрашивают у меня причину конфликта. Я отвечаю, что, наверное, Чагину очень хотелось почитать роман. Медсестра несёт наполненный шприц и делает шизофренику укол, который называют горячим. Но и после укола Чагин продолжает сжимать половину «Рэгтайма», как утопающий стискивает предмет спасения.
Чагина отводят в наблюдательную палату.
А мне остаётся дочитывать то, что осталось от романа.
Редактор: Александра Яковлева
Корректор: Вера Вересиянова
Все избранные рассказы в Могучем Русском Динозавре — обретай печатное издание на сайте Чтива.