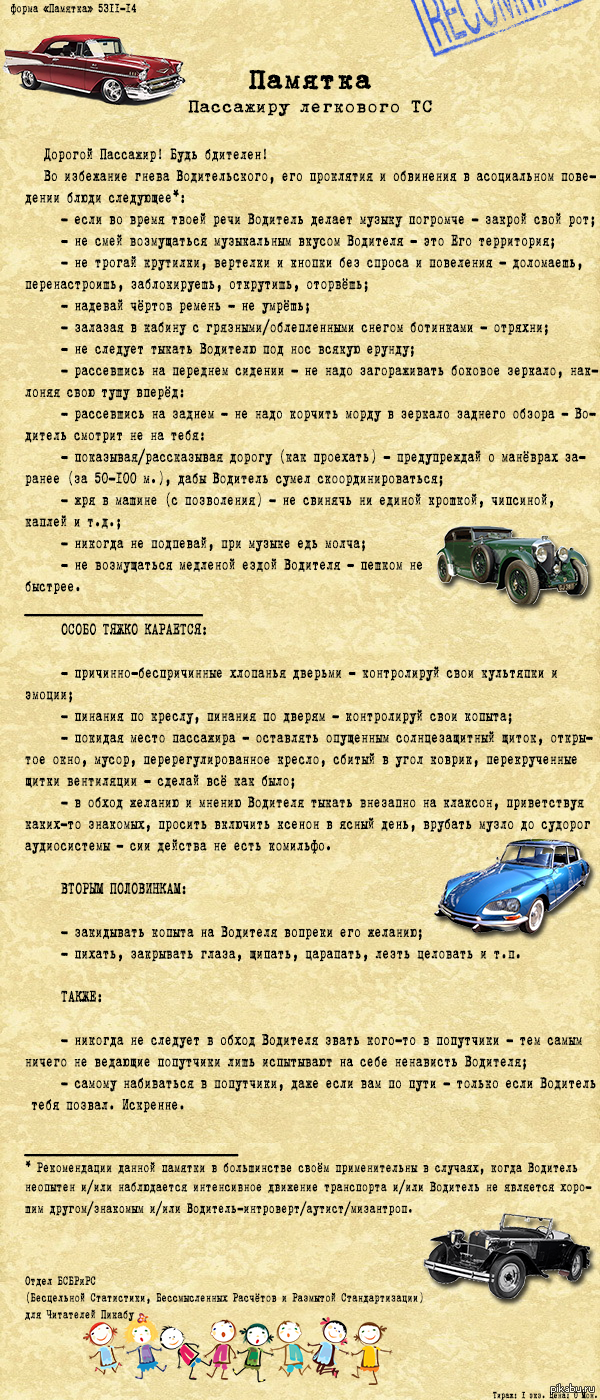Принцип дуальности 6
Фотографии на фоне однотонной шторы наполняют фототеку. Объём живота увеличивается. Уменьшается объём бумажника. Работа старается вытеснить меня. Подчинённый больше бегает по своим личным делам, плюнув на свои неинтересные обязанности.
Я делаю погромче радио, слушаю умиротворённую песенку о том, что «я знаю, ты должен меня любить». Рисую на полях некрологов рисунки фиолетовым карандашом.
Сейчас ночь. Как и всегда. Жизнь – это сплошная ночь, с перерывом на неинтересный день. Я рисую в черновике сотенную камеру и откашливаюсь. Поправляю галстук (невидимый, конечно) и толкаю речь своим избирателям. Обещаю им хорошую жизнь, не веря этому.
- Я хочу киви...
Она поднимает нижнюю губу.
- И я должен тебе его принести?
- Внизу есть круглосуточный магазин.
- Есть. Ладно. Принесу. Но ты жестоко за это поплатишься.
- Сам поплатишься. Надо ещё молоко и сахар.
- Возьму ещё зелёнки и нарисую у тебя на животе арбуз.
Она села за синтезатор и принялась старательно тыкать в клавишу по одной. А я представил себе, что выхожу в необитаемую улицу. Планета заброшена и есть только один способ выжить – найти в магазине киви и зелёнку, молоко и сахар. Тёмный подъезд с потолком из сталактитов, покрытых инеем, убеждают меня, что так оно и есть. И где то в глубине моего звукоприёмника слышится лёгкий рок. Как перед исполнением опасной миссии.
Спускаться вниз несколько этажей – скучное занятие. Развлечение находится быстро – я включаю диктофон и бормочу в него, что, дескать, всё нормально. Скрипит холодная дверь.
Мир и вправду давно вымер. Двор пустынен, отчуждён. Лишь машины дают повод подозревать, что все ещё живы. В следующие несколько минут по добыванию необходимых предметов для продолжения жизни двух последних людей на планете могут быть почерпнуты из диктофона – я забыл его выключить и он в широком звуковом диапазоне записал мою краткую эпопею.
Звуки шагов, трения одежд. Контрольная точка – магазин. Контрольная точка – тёмный переулок под домом. Контрольная точка – неизвестные, жаждущие моих горчичников-эквивалентов материальных ценностей. Краткий диалог, в котором я изначально должен был проиграть. Основываясь на этом априори, я делаю соответствующие выводы и выбрасываю сжатые кулаки в стороны лиц неизвестных. К сожалению, моя лучшая оборона терпит крах.
Мне смешно и я со звериной решимостью удерживаю в руках первоочередно-необходимые предметы жизни: зелёнку и киви. Ибо тогда мир исчезнет – вымрут последние люди моего родного мира, на которых он держится. Ради которых я предал всех остальных и бросил, негромко защёлкнув за собой дверь в прихожей старого, некогда мне родного мира.
В подъезде всё так же темно. Один мой глаз скрывается за фиолетовым пятном гематомы, губы неестественно выворачиваются наружу – безумные хирурги вкачали ботекса и отрезвили разум через обыкновенную физическую боль.
Я поднимаюсь наверх. К своей обрюзгшей квартире. В скрипучем лифте, который где то снаружи трётся о стенки своей шахты металлическими когтями. Рядом стоит неизвестная мне старуха из другой вселенной и с опаской глядит на меня.
По странной аналогии в голове, я вообразил себя котом, у которого топорщатся усы. Когда у вас такие усы, то ими непременно надо шевелить. И я шевелю ими, обращаясь к старухе.
- Гораздо было бы больнее – избив они меня морально. Но у них недостаточно способностей на это.
Старуха погрузилась в тихую панику.
- Простите, - добавляю я.
Старуха в большей панике.
Я выхожу из лифта. Металлические помятые шторки взвизгивают и хлопают мне постыдной одноразовой овацией.
- Сумасшедший! – кричит из утробы бетонной шахты старуха.
Чёрт возьми, да она права.
- Что с тобой будешь делать?
- А что со мной будешь делать? – я рисую зелёнкой полосы арбуза, тщательно разграничивая каждую полосу, чтобы в дальнейшем обвести их маркером.
- Ничего, дурак, - она выключает диктофон и сердито косится на меня. Правдоподобно косится. А мне нравится изображать из себя того, кому всё нипочём.
- Ты гордишься мной? Я принёс кучу киви.
- Я горжусь тобой.
Я целую её живот. И ложусь напротив него, любовно его осматривая. Саму Глупышку тянет в сон. Она готова спать бесконечности.
- Хочешь, я вышью на подушке лемнискату?
- Хочу... А ты себе вышей уроборосу...
- Ты моя смешная... Апейрон моей вселенной не зря столкнулся с тобой. Оно даёт интересные результаты.
- Я спать... Спокойной ночи, я возьму твою подушку...
Я вышиваю тёмными нитками. Штопаю рисунок своего подсознания на белой материи. Неумело, но довольно сносно на первый раз. Первая бесконечность всегда выходит комом перевёрнутой восьмёрки.
Глупышка похрапывает. Интересный, только замеченный факт, приводящий меня в любовное изумление. Быть в любовном изумлении – быть в ещё большем изумлении – влюблённый всегда идиот, не замечающий ничего во вселенной, кроме своего обожаемого никому другому непримечательного объекта адорации.
Под музыку заунывной беседы самим с собой – я засыпаю в десятитысячный раз в этой жизни.
Помнится, мы с Фриком всегда хотели в прошлое. Нас неумолимо тянуло к тридцатым годам двадцатого века, восьмидесятым, девяностым. Различием в наших с ним путешествиях во времени было то, что Фрика тянуло ещё и девятнадцатому веку и фанерозою, в частности палеозою, а я ограничивался страстью к периоду первой мировой.
Сон начался с автобуса, словно украшенного гирляндами изнутри. Он проехал мимо, внизу, под окном, одинокий, по холодному утру. Я повернулся, чтобы рассказать об этом Фрику, но он опередил меня:
- Братец! Ответь мне как старший братец, если есть счастье, основанное на прошлом, и если есть счастье, основанное на будущем, то какое принципиально лучше?
- Ты девушку себе нашёл?
- В этой докучной сказке девушка не может быть счастьем. Она может быть утешением. Как и любой человек. Ну, так?
- Счастье, основанное на прошлом лучше. Оно более стабильно. Впрочем, во мне говорит консерватор, будущее часто сулит нечто неведомое и, как оно обманывает – неизведанное.
Мы в сбитом из кромешного дерева отеле. В тесном номере. Собираем свои автоматы системы Томпсона, по той причине, что на наших глазах полицейские посреди улицы перестреляли банду новоявленных бутлегеров и теперь рыскали в округе, надеясь выловить ещё двух, у которых при себе не было документов.
Длинные плащи и шляпы с широкими полями. Я ничего не успеваю сделать, как нас уже вытолкали из номера и строят возле стены. К счастью, приставленный к нам соглядатай теряет нас в куче выгнанных на простор коридора. Я быстро бегу в фойе. Там я вижу владелицу этого отеля и прошу её помочь…
- …Ты не усвоил главного! – орёт мне в ухо Фрик, стараясь перекричать толпу на стадионе, скандирующей овации рок-группе, выступающей в честь «перестройки».
- Чего же это?
- Такие как мы – никогда не будут счастливы!
- Почему?
Но он не слышит меня. Лишь улыбается и подпевает во весь голос песне, раздающейся сотрясающим шумом в окружающих городскую площадь стенах. Размахивает полой банкой пива и кричит, сияя от счастья.
- Почему?! – злюсь я на этот шум и выкрики со сцены.
- …Потому что мы не приспособлены, - теперь голос раздаётся тихо-тихо. Мы в уютном конференц-зале, где вот-вот состоится приём в честь прибытия Кайзера.
Я осторожно трогаю верхушечку своей каски и так же осторожно трогаю верхушечку на каске Фрика. Он неторопливо убирает мою руку, бряцают его ордена на мундире и отливает мне в глаза светом свечей его наградной крест. Я мельком осматриваю себя – у меня такого нет. И орденов у меня вдвое меньше, чем у него. Вот дьявол мелкий.
- Мы очень приспособлены…
- Притворяться…
- Не говори ерунды.
- Это эндогенно. Это не исправить.
- Чёртов ты пессимист.
- Да-да, братец, говори что угодно, прошли те времена, когда ты растолковывал, что есть плохо и что есть хорошо.
- Я никогда тебе не говорил, что есть плохо, я ограничивался фактами.
- Ну что ж. Скоро прибудет его величество Кайзер, не буду вам мешать. Мне пора…
- Прощай, приходи ещё.
- Обязательно посети выставку, в этих сжатых видах на происходящее – много удобоваримого смысла...
- Хорошо, я постараюсь сходить. Может, подождёшь ещё немного? Я очень мало вижу тебя в последнее время.
- Пангея не будет ждать, мне пора, братец...
Я делаю погромче радио, слушаю умиротворённую песенку о том, что «я знаю, ты должен меня любить». Рисую на полях некрологов рисунки фиолетовым карандашом.
Сейчас ночь. Как и всегда. Жизнь – это сплошная ночь, с перерывом на неинтересный день. Я рисую в черновике сотенную камеру и откашливаюсь. Поправляю галстук (невидимый, конечно) и толкаю речь своим избирателям. Обещаю им хорошую жизнь, не веря этому.
- Я хочу киви...
Она поднимает нижнюю губу.
- И я должен тебе его принести?
- Внизу есть круглосуточный магазин.
- Есть. Ладно. Принесу. Но ты жестоко за это поплатишься.
- Сам поплатишься. Надо ещё молоко и сахар.
- Возьму ещё зелёнки и нарисую у тебя на животе арбуз.
Она села за синтезатор и принялась старательно тыкать в клавишу по одной. А я представил себе, что выхожу в необитаемую улицу. Планета заброшена и есть только один способ выжить – найти в магазине киви и зелёнку, молоко и сахар. Тёмный подъезд с потолком из сталактитов, покрытых инеем, убеждают меня, что так оно и есть. И где то в глубине моего звукоприёмника слышится лёгкий рок. Как перед исполнением опасной миссии.
Спускаться вниз несколько этажей – скучное занятие. Развлечение находится быстро – я включаю диктофон и бормочу в него, что, дескать, всё нормально. Скрипит холодная дверь.
Мир и вправду давно вымер. Двор пустынен, отчуждён. Лишь машины дают повод подозревать, что все ещё живы. В следующие несколько минут по добыванию необходимых предметов для продолжения жизни двух последних людей на планете могут быть почерпнуты из диктофона – я забыл его выключить и он в широком звуковом диапазоне записал мою краткую эпопею.
Звуки шагов, трения одежд. Контрольная точка – магазин. Контрольная точка – тёмный переулок под домом. Контрольная точка – неизвестные, жаждущие моих горчичников-эквивалентов материальных ценностей. Краткий диалог, в котором я изначально должен был проиграть. Основываясь на этом априори, я делаю соответствующие выводы и выбрасываю сжатые кулаки в стороны лиц неизвестных. К сожалению, моя лучшая оборона терпит крах.
Мне смешно и я со звериной решимостью удерживаю в руках первоочередно-необходимые предметы жизни: зелёнку и киви. Ибо тогда мир исчезнет – вымрут последние люди моего родного мира, на которых он держится. Ради которых я предал всех остальных и бросил, негромко защёлкнув за собой дверь в прихожей старого, некогда мне родного мира.
В подъезде всё так же темно. Один мой глаз скрывается за фиолетовым пятном гематомы, губы неестественно выворачиваются наружу – безумные хирурги вкачали ботекса и отрезвили разум через обыкновенную физическую боль.
Я поднимаюсь наверх. К своей обрюзгшей квартире. В скрипучем лифте, который где то снаружи трётся о стенки своей шахты металлическими когтями. Рядом стоит неизвестная мне старуха из другой вселенной и с опаской глядит на меня.
По странной аналогии в голове, я вообразил себя котом, у которого топорщатся усы. Когда у вас такие усы, то ими непременно надо шевелить. И я шевелю ими, обращаясь к старухе.
- Гораздо было бы больнее – избив они меня морально. Но у них недостаточно способностей на это.
Старуха погрузилась в тихую панику.
- Простите, - добавляю я.
Старуха в большей панике.
Я выхожу из лифта. Металлические помятые шторки взвизгивают и хлопают мне постыдной одноразовой овацией.
- Сумасшедший! – кричит из утробы бетонной шахты старуха.
Чёрт возьми, да она права.
- Что с тобой будешь делать?
- А что со мной будешь делать? – я рисую зелёнкой полосы арбуза, тщательно разграничивая каждую полосу, чтобы в дальнейшем обвести их маркером.
- Ничего, дурак, - она выключает диктофон и сердито косится на меня. Правдоподобно косится. А мне нравится изображать из себя того, кому всё нипочём.
- Ты гордишься мной? Я принёс кучу киви.
- Я горжусь тобой.
Я целую её живот. И ложусь напротив него, любовно его осматривая. Саму Глупышку тянет в сон. Она готова спать бесконечности.
- Хочешь, я вышью на подушке лемнискату?
- Хочу... А ты себе вышей уроборосу...
- Ты моя смешная... Апейрон моей вселенной не зря столкнулся с тобой. Оно даёт интересные результаты.
- Я спать... Спокойной ночи, я возьму твою подушку...
Я вышиваю тёмными нитками. Штопаю рисунок своего подсознания на белой материи. Неумело, но довольно сносно на первый раз. Первая бесконечность всегда выходит комом перевёрнутой восьмёрки.
Глупышка похрапывает. Интересный, только замеченный факт, приводящий меня в любовное изумление. Быть в любовном изумлении – быть в ещё большем изумлении – влюблённый всегда идиот, не замечающий ничего во вселенной, кроме своего обожаемого никому другому непримечательного объекта адорации.
Под музыку заунывной беседы самим с собой – я засыпаю в десятитысячный раз в этой жизни.
Помнится, мы с Фриком всегда хотели в прошлое. Нас неумолимо тянуло к тридцатым годам двадцатого века, восьмидесятым, девяностым. Различием в наших с ним путешествиях во времени было то, что Фрика тянуло ещё и девятнадцатому веку и фанерозою, в частности палеозою, а я ограничивался страстью к периоду первой мировой.
Сон начался с автобуса, словно украшенного гирляндами изнутри. Он проехал мимо, внизу, под окном, одинокий, по холодному утру. Я повернулся, чтобы рассказать об этом Фрику, но он опередил меня:
- Братец! Ответь мне как старший братец, если есть счастье, основанное на прошлом, и если есть счастье, основанное на будущем, то какое принципиально лучше?
- Ты девушку себе нашёл?
- В этой докучной сказке девушка не может быть счастьем. Она может быть утешением. Как и любой человек. Ну, так?
- Счастье, основанное на прошлом лучше. Оно более стабильно. Впрочем, во мне говорит консерватор, будущее часто сулит нечто неведомое и, как оно обманывает – неизведанное.
Мы в сбитом из кромешного дерева отеле. В тесном номере. Собираем свои автоматы системы Томпсона, по той причине, что на наших глазах полицейские посреди улицы перестреляли банду новоявленных бутлегеров и теперь рыскали в округе, надеясь выловить ещё двух, у которых при себе не было документов.
Длинные плащи и шляпы с широкими полями. Я ничего не успеваю сделать, как нас уже вытолкали из номера и строят возле стены. К счастью, приставленный к нам соглядатай теряет нас в куче выгнанных на простор коридора. Я быстро бегу в фойе. Там я вижу владелицу этого отеля и прошу её помочь…
- …Ты не усвоил главного! – орёт мне в ухо Фрик, стараясь перекричать толпу на стадионе, скандирующей овации рок-группе, выступающей в честь «перестройки».
- Чего же это?
- Такие как мы – никогда не будут счастливы!
- Почему?
Но он не слышит меня. Лишь улыбается и подпевает во весь голос песне, раздающейся сотрясающим шумом в окружающих городскую площадь стенах. Размахивает полой банкой пива и кричит, сияя от счастья.
- Почему?! – злюсь я на этот шум и выкрики со сцены.
- …Потому что мы не приспособлены, - теперь голос раздаётся тихо-тихо. Мы в уютном конференц-зале, где вот-вот состоится приём в честь прибытия Кайзера.
Я осторожно трогаю верхушечку своей каски и так же осторожно трогаю верхушечку на каске Фрика. Он неторопливо убирает мою руку, бряцают его ордена на мундире и отливает мне в глаза светом свечей его наградной крест. Я мельком осматриваю себя – у меня такого нет. И орденов у меня вдвое меньше, чем у него. Вот дьявол мелкий.
- Мы очень приспособлены…
- Притворяться…
- Не говори ерунды.
- Это эндогенно. Это не исправить.
- Чёртов ты пессимист.
- Да-да, братец, говори что угодно, прошли те времена, когда ты растолковывал, что есть плохо и что есть хорошо.
- Я никогда тебе не говорил, что есть плохо, я ограничивался фактами.
- Ну что ж. Скоро прибудет его величество Кайзер, не буду вам мешать. Мне пора…
- Прощай, приходи ещё.
- Обязательно посети выставку, в этих сжатых видах на происходящее – много удобоваримого смысла...
- Хорошо, я постараюсь сходить. Может, подождёшь ещё немного? Я очень мало вижу тебя в последнее время.
- Пангея не будет ждать, мне пора, братец...