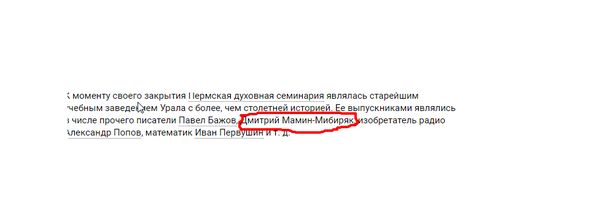На последней неделе августа Серегу Хвощева, среди своих сверстников известного как Хвощ, привезли обратно в детдом.
Стояли теплые, полные ласкового солнца, дни, и большинство воспитанников, вернувшихся из загородных лагерей и предоставленных самим себе, проводили все свободное время на улице.
Горб, Рыжик и Муха играли в футбол во дворе, и прекрасно видели, как у ворот остановилась машина, и из нее вышел Хвощ с какой-то незнакомой женщиной.
— Хрена... — пробормотал Рыжик, беря мяч в руки. — По ходу, его назад прислали.
— Ну, дык, не стали бы они его там все время держать, — пожал плечами Горб. — Кормить надо, расходы всякие, кому он нужен...
Муха, прищурившись, рассматривал новоприбывших, идущих по асфальтированной дорожке к входной двери. Когда они скрылись, он обернулся к друзьям:
— У Хвоща рожа как у сраного терминатора. Глаза в кучу.
— Это его в дурке какой-нибудь дрянью накачали.
— Ага, — Муха выхватил у Рыжика мяч. — И теперь он грустит, что здесь уже не с чего будет поторчать!
Смех взлетел в спокойное безоблачное небо, налитое густой синевой, подхваченный внезапным порывом ветра, ударился в окна, отразился от запыленных стекол и растаял в легком шелесте травы. Игра продолжалась.
Если тебе всего двенадцать, то полгода — большой срок. Именно столько прошло с того февральского дня, когда Хвощ, обычно спокойный и замкнутый, медленный на подъем, вдруг посреди урока географии вскочил с места, схватил стул и с размаху кинул в учительницу. Она еле увернулась, а мальчишка бросился к ней и, крича: «Убью, сука!», ударил по лицу, сбив очки. Драться флегматичный и щуплый Хвощ никогда не любил, а если приходилось, то делал это так неуклюже и неумело, что заставлял и противника и зрителей давиться от хохота. Но этот удар ему удался. Географичка выбежала из класса в слезах, и с тех пор дети ее больше не видели. Оно и понятно, после такого ни о каком авторитете среди учеников речь идти не может. Но дело не в учительнице, а в том, что, как только она выскочила за дверь, ноги Хвоща вдруг подломились, и он осел на пол, заходясь в беззвучных рыданиях на глазах у ошеломленных одноклассников. Никто так и не сказал ни слова, пока не подоспели завучи и не увели Хвоща прочь. Он не сопротивлялся, не отвечал на расспросы и не поднимал глаз. Бледный и поникший, сидел он сначала в кабинете директора школы, потом в кабинете заведующей детским домом, уставившись в одну точку, тихо всхлипывая и время от времени кусая грязные ногти. На другой день его увезли, и многие не без оснований решили, что навсегда. Как теперь выяснилось, они ошибались — Хвощ вернулся.
Вскоре стало ясно, что лечение мало подействовало на беднягу. Он не говорил никому ни слова. Понуро слонялся по коридорам и комнатам, скользя по стенам пустым, ничего не выражающим взглядом. Если к нему обращались, не отвечал. Вообще не реагировал, даже не поворачивал головы. Просто проходил мимо. Казалось, что он ищет нечто, известное и важное лишь ему.
Между тем лето все-таки закончилось, несмотря на все надежды и мольбы. Грянуло сумбурно-бессмысленное первое сентября, безрадостный праздник, не нужный ни ученикам, ни учителям. Во время торжественной линейки впервые за последние три недели пошел дождь, холодный и серый, и завуч со школьного крыльца читала свое ежегодное обращение равнодушным зонтам. Хвощ стоял вместе с остальными детдомовскими, и ни у кого из них не было зонта. Вода текла по его лицу, капала с подбородка, но он ни разу не поднял руки, чтобы стереть ее. И ни разу не моргнул.
Началась учеба, и лето, полное безмятежного покоя, свободы и солнца, стало превращаться в сон. Многим уже казалось, будто бы его и вовсе не было — так, мелькнуло что-то теплое и светлое и тут же исчезло, без остатка растворилось в буднях. Классы, уроки, занудные учителя, скучные учебники. Скука, скука, скука. Бредовые, бесполезные правила, факты, мысли, никчемные обрывки какой-то другой реальности. Москва была основана в таком-то году, свет проходит расстояние от солнца за восемь минут, глаза — зеркало души. Кому это нужно?! Сидишь в четырех стенах, слушаешь голос, бубнящий то ли таблицу умножения, то ли английский алфавит, и думаешь только о футбольном поле. После ужина в детдоме — свободное время.
Хвощ не прогуливал и не хулиганил. Он даже не курил. На переменах стоял где-нибудь в уголке; на уроках, не отрываясь, смотрел в окно. Преподаватели не беспокоили его. Класс, сформированный из детдомовских, был очень тяжелым, и в нем каждый, способный хотя бы просто сидеть тихо, ценился на вес золота. Классная руководительница, с головой ушедшая в ведомости на питание и составление учебного плана, и думать забыла о своем необычном подопечном, тем более, что он, вроде бы, не доставлял никаких хлопот. Одноклассники и соседи по комнате тоже перестали обращать на Хвоща внимание. По крайней мере, до тех пор, пока он не нарушил свой обет молчания.
Во вторую учебную субботу, по старой традиции, администрация школы решила провести день здоровья. Это значило следующее: никаких уроков, пробег, пожарная эстафета, классный час. Для детдомовских — настоящий праздник, единственная возможность хоть в чем-то превзойти домашних. Естественно, с того времени, как стало известно о готовящемся мероприятии, во всех комнатах и укромных курилках обсуждалась только одна тема — кто будет участвовать в субботних соревнованиях.
В четверг вечером Муха, Рыжик и еще двое ребят постарше сидели на старых качелях за жилым корпусом. Вились синие струйки табачного дыма, а вместе с ними и неспешная, обстоятельная беседа, сопровождавшаяся смачными плевками в траву.
— Надо Бориса первым поставить. Он стопудово сразу всех сделает.
— Борис не побежит, — помотал головой Рыжик. — Он в изоляторе.
— А чё?
— Говном на уроке кидался. Из толчка принес в бумажке завернутое.
— Герой, бля. А кого вместо него?
— Не знаю.
— Хвоща надо, — вдруг предложил Рыжик. — Помните, как он раньше гонял? Ну, в начальной школе?
— Да, гонял здорово, только теперь ты его не заставишь.
— Точно. Кстати, он во сне разговаривает.
— Серьезно?
— Отвечаю. Вчера проснулся... Ну, в толчок пойти. А он бормочет чушь какую-то.
— И что бормотал?
— Да не помню. Про театр и короля вроде... король гнили или боли, хрен его знает. Еще ногой дергает и так быстро шепчет «Отпусти, отпусти, отпусти...».
— Во дурик!
— Больной, хер ли...
За ужином Муха сел рядом с Хвощом и, ткнув его локтем под ребра, заговорщицки подмигнул:
— Как там король гнили?
Хвощ вздрогнул и выронил ложку. Лицо его вытянулось и побелело, Муха даже испугался, что тот сейчас грохнется в обморок. Но нет. Глубоко вдохнув, Хвощ спросил дрожащим голосом:
— Откуда ты знаешь?
Муха заржал:
— Оказывается, ты не только во сне разговариваешь!
Хвощ, видимо, понял, что к чему. Краска постепенно возвращалась на его лицо. Он схватил ложку и зло пробормотал:
— Хочу — говорю, хочу — не говорю!
Сине-серые сентябрьские сумерки заполнили собой комнату. Дежурная воспитательница уже закончила обход и погасила в спальне мальчиков свет. Наступило странное, зыбкое время между днем и ночью, между сном и явью, время теней и жутких историй, важных разговоров, подводящих итоги, расставляющих все по своим местам. Муха, которому не спалось из-за воспоминаний об отце, сел на кровати и спросил:
— Эй, Хвощ, как там в психушке?
Он не надеялся на ответ, но услышал его:
— Весело.
— Да ладно. Что может быть веселого в психушке?
— Может, — Хвощ лежал на спине, не мигая, глядя в потолок. — У нас был кукольный театр.
— Триндишь! Театр, блин. Откуда в дурке театр?
— Не знаю. Он там всегда был.
Муха переглянулся с Рыжиком и выразительно покрутил пальцем у виска.
— И что там показывали?
Хвощ недовольно поморщился, не отрывая взгляда от потолка:
— Показывали всякое. Какая разница? Про Гамлета там, еще много...
— Про кого? — фыркнул Муха. — Это что за мудак такой?
— Принц один. У него отца убили, и он с ума сошел.
— Ни хрена себе! Вам там вокруг своих дуриков мало было?
— Ты не веришь мне? — голос Хвоща был спокоен и холоден, как лесной ручей.
— Нет, не верю, — Муха зло ухмылялся. — Мне кажется, в дурдоме тебя просто перекормили таблетками, потому что ты псих, долбанутый на всю башку. И теперь втираешь нам какую-то хрень про принцев и кукольный театр. Либо просто триндишь, либо тебя приглючило.
Рыжик встрепенулся:
— А еще этот, гнилой король, или как там!
— Точно! Он тебе снится, что ли?
Хвощ даже не повернул головы. По-прежнему глядя вверх, он просто сказал:
— Сам все увидишь.
И закрыл глаза.
Следующим утром на тумбочке рядом с кроватью Мухи появился билет. Это была половинка обыкновенного листа в мелкую клетку, вырванного из школьной тетради. В центре синей шариковой ручкой было изображено нечто вроде занавеса с двумя классическими масками трагедии и комедии. Сверху шла надпись, сделанная крупными корявыми буквами с многочисленными завитушками:
«ДОБРО ПОЖАЛАВАТЬ В НАШ ТЕАТР».
А снизу еще одна, короткая, ровными четкими буковками:
«Билет № 1»
Муха повертел бумажку в руках, стукнул в плечо Рыжика:
— Глянь, как этого психа прёт. Всю ночь, наверно, сидел рисовал.
Рыжик хмыкнул и, пожав плечами, полез в тумбочку за зубной щеткой. Муха подошел к Хвощу, процедил сквозь зубы:
— Это ты мне положил?
Тот медленно и настороженно повернулся, будто бы не был уверен, действительно ли слышал рядом с собой чей-то голос:
— Что?
— Что! Оглох, ёптвою?! Это ты мне положил, спрашиваю?
Хвощ кивнул:
— Я. Положил. Пригодится.
— На хрена?
— Это билет, — он еле заметно улыбнулся. — В театр. Ты же хотел посмотреть.
— И чё, типа, они ко мне приедут теперь?
— Да. Уже скоро.
Муха скривился. Чокнутый слишком далеко зашел в своем вранье, это отличный шанс проучить его. И, несмотря на то, что держать бумажку в руках было неприятно, Муха аккуратно сложил ее, сунул в задний карман джинсов и сказал:
— Хорошо. Но если никакого театра не приедет до понедельника, я тебе рыло начищу, лады?
— Лады, — просто ответил Хвощ и начал натягивать свитер, давая понять, что разговор окончен.
День выдался суматошный, но удачный. Утро было туманное и холодное, однако небо оставалось чистым, без единого облачка, и ни одно из запланированных мероприятий не отложили. В пробеге детдомовские оставили домашних далеко позади, без труда победив на каждом из десяти этапов.
Потом была пожарная эстафета. Они разматывали шланг, таскали на носилках «раненых», носились вокруг стадиона в противогазах. Рыжик схлестнулся с одним шестиклассником, и Муха кинулся другу на подмогу. К тому времени как подоспел физрук и растащил их, у обоих уже были разбиты носы и губы, хотя шестикласснику досталось сильнее, все-таки его били вдвоем. Классная руководительница накричала на них, пообещала рассказать все воспитателям. Муха послал ее по всем известному адресу — громко и прилюдно. Он был слишком взвинчен, чтобы соображать, что делает. Классная отвесила ему пощечину и пообещала засадить в изолятор на неделю. Муха плюнул ей под ноги, развернулся и пошел прочь. Двое десятиклассников остановили его и привели в детдом, где оставили под надзором подслеповатой технички тети Саши до окончания всех мероприятий дня здоровья.
После обеда у них была забита стрела с одним парнем из домашних, который вдруг начал ни с того, ни с сего кричать, что Горб на своем участке эстафеты срезал путь. Вполне возможно, это действительно имело место, но сдавать своих никто не собирался. Победителей, как известно, не судят.
На стрелу кроме виновников торжества подтянулись Муха с Рыжиком и еще парочка любителей на халяву подраться. Со стороны домашних подошло трое.
Но махач не состоялся. Пацан вдруг взял и вежливо извинился перед Горбом, признавшись, что был не прав. Горб важно кивнул, пожал протянутую руку и, глупо улыбаясь, отправился назад. От расстройства Муха подрался с Рыжиком. Через десять минут они уже помирились и уселись в туалете играть на мелочь в новые карты с фотографиями голых женщин, которые подарил Горбу один его друг из города.
Неудивительно, что Муха совсем позабыл про билет, лежавший в заднем кармане джинсов.
Осень брала свое. К вечеру все небо затянули облака, а вскоре после наступления темноты пошел дождь. Он монотонно стучал по крыше и карнизам, навевая недобрые предчувствия. С наружной стороны окна к стеклу прилип мокрый березовый листок — в комнату заглядывала тоска грядущей зимы. Холодный ветер задувал в щели в старой оконной раме, и все внутри поплотнее кутались в тонкие одеяла. На этот раз перед сном ожесточенно обсуждались спортивные события и достижения прошедшего дня. Каждый стремился рассказать о себе, о том, как он ломанулся, и как чуть не споткнулся и не долбанулся прямо мордой в асфальт. Только Хвощ молчал, с головой укрывшись одеялом, но на него никто не обращал внимания. Несколько раз ночная дежурная, приоткрывала дверь и шипела:
— Мальчики, тише!
Все тут же замолкали и зажмуривали глаза, а стоило ее шагам в коридоре стихнуть, как споры возобновлялись с новой силой. Однако к полуночи они постепенно прекратились — дождь одного за другим убаюкал мальчишек. Всех, кроме Мухи.
Тот никак не мог заснуть. Смотрел на одинокий желтый листок в окне и впервые за долгое время вспоминал отца.
Налитые кровью глаза, густая щетина на исхудавшем лице, вечно взлохмаченные грязные волосы. Он походил на человека, только что сбежавшего из вражеского плена. У них на стене, рядом с зеркалом, висела фотография мамы. Однажды Муха (правда, тогда, во втором классе, его еще никто так не называл) вернулся домой из школы, стекло на фотографии оказалось вдребезги разбито. Отец сидел на подоконнике и бурчал себе под нос какую-то песню. Как обычно, пьяный и мало понимающий, что к чему. Увидев сына, он протянул руку — наверное, чтобы потрепать его по волосам, как часто делал раньше — но Муха увернулся и пошел к себе в закуток. Отец сзади гневно проревел:
— Вернись немедленно, сукин сын!
Он открыл глаза, и воспоминания прервались. Карман в его джинсах, висящих на спинке стула, светился. Слабым белым светом. Тот самый карман, в который он утром засунул билет.
Муха осторожно сел на кровати и, оглядевшись, вытащил бумажку. Она действительно светилась. Не вся целиком, а только буквы и рисунки. Теперь на ней была еще одна надпись — в самом низу, почти по краю.
«Второй этаж, за библиотекой».
Это адрес, догадался Муха. Кукольный театр находится именно там, в пустующем крыле здания. Может, он все-таки уснул, и Хвощ незаметно оставил на билете эту приписку, а теперь дожидается его?
Муха встал. Ну, точно. Кровать Хвоща была пуста, только скомканное одеяло, будто бы сброшенное в сильной спешке, свешивалось на пол. Что ж, этот придурок сам напросился. Муха натянул джинсы и майку и, зажав в кулаке все еще мерцающий билет, на цыпочках вышел из комнаты. В коридорах не выключали свет на ночь, а потому передвигаться по детдому было совсем не трудно, главное — не попасться на глаза дежурному.
Муха вышел на лестницу, спустился на два пролета вниз, прошмыгнул мимо комнаты воспитателей, из которой доносился зычный храп, и свернул в левое крыло. Теперь он был почти у цели. Вот и обшарпанная дверь с покосившейся табличкой. «БИБЛИОТЕКА». Рядом на стене список книг, которые разрешается брать воспитанникам, и фотографии лучших читателей.
Свернув за угол, Муха замер. Впереди была тьма. Свет, линолеум, коричнево-белые стены — все резко обрывалось в густом мраке, невесть откуда возникшем посреди коридора. В следующее мгновенье мальчик понял, что перед ним, и выдохнул с облегчением, хотя жути от понимания не убавилось. Потому что это был занавес. Черный или темно-синий, ниспадающий с потолка изящными тонкими складками.
Мухе вдруг захотелось помолиться, но ни одного нужного слова на ум не пришло.
— Эй, Хвощ! — позвал он шепотом. — Ты там?
Ответом была тишина. Сжав кулаки, он осторожно подобрался к занавесу и, приподняв его — ткань оказалась легкой и приятной на ощупь, — шагнул за....
Такого Муха еще никогда не видел. Это совсем не походило на детдом. Огромный, погруженный во мрак зал, полный удобных с виду кресел, и ярко освещенная пустая сцена. Под ногами — мягкий зеленый ковер, а на потолке — величественные хрустальные люстры, потухшие, но оттого не менее прекрасные.
— Пришел все-таки? — раздался сбоку знакомый голос.
Хвощ сидел на ближайшем кресле и, что удивительно, был одет в аккуратный черный фрак, сшитый точно по фигуре. Такие носят пушкинские герои на картинках в учебниках литературы.
Облегченно вздохнув, Муха прошептал:
— Эй, ни хрена себе... ты где такой костюм надыбал?
Хвощ мотнул головой:
— Неважно. Твой билет.
Муха, все еще не совсем уверенный в реальности происходящего, протянул ему бумажку, которая перестала светиться, как только он миновал занавес.
— Отлично, — Хвощ взял ее, рассмотрел и вдруг порвал надвое. — Теперь ты можешь пройти. Уже совсем скоро! Иди за мной.
И он повел его по проходу между рядами кресел вниз, к сцене.
— Ты что... билетер, так? — спросил Муха, с трудом припомнив нужное слово.
— Да. И распространитель. Это по любому лучше, чем стать актером. Мы договорились, — Хвощ изо всех сил старался, чтобы его голос не дрожал, но выходило не очень. — Договорились.
— С кем?
— С хозяином театра.
— Слышь, — Муха пропустил последнюю реплику мимо ушей. — А откуда здесь все это взялось?
— Не знаю. Может, всегда было.
— Да не гони! Такая махина не влезет в детдом.
— А кто тебе сказал, что это детдом? Это театр. Хозяин говорит, весь мир — театр. Вот, садись.
Хвощ указал на кресло в середине первого ряда, прямо перед сценой.
Муха подозрительно огляделся. Темнота скрывала зал вокруг, но он был уверен, что кроме них, здесь никого больше нет. Почти уверен.
— Садись, садись, — настаивал Хвощ. — Представление сейчас начнется.
— Какое представление? — Муха сел, чувствуя, как внутри растет злоба. Чокнутый оказался прав. Черт его знает, как, но прав, и это не давало покоя, зудело где-то в глубине сознания черным ядовитым комком. Хотелось встать и с размаху двинуть в эту потную невзрачную харю. Уж драться-то он умел. Всего пара ударов, и ушлёпок во фраке будет валяться на полу...
— Сценка, — пояснил Хвощ, опускаясь в соседнее кресло. — Обычно в кукольный театр ходит много народу, но сегодня... тут все специально для тебя.
— Для меня?
— Да. Ты же хотел увидеть. Вот и дождался. Приехали к тебе одному.
— Э, погоди... а комендант, там... дежурные, воспитатели — знают?
— Какой комендант? Забудь, — нервно усмехнулся Хвощ и тут же, ткнув соседа локтем, шепнул:
— Всё! Замолчи!
Заиграла негромкая музыка, и на сцену вышли две куклы. Вернее, это сначала они показались Мухе куклами, потом он пригляделся, и волосы у него на загривке зашевелились. На сцене стояли дети — двое мальчишек его возраста. Бледные лица, ввалившиеся щеки, полузакрытые глаза. Оба казались измученными, истощенными, и вряд ли соображали, что с ними происходит.
Сквозь кисти, ступни и шеи «кукол» были продеты тонкие, отливающие медью нити, уходящие далеко вверх, в густую тьму, где неведомые чудовищные кукловоды готовились к представлению.
— Охренеть! — Муха испуганно повернулся к Хвощу. — У них реально ладони проволокой проткнуты?
— Это театр, — прошептал тот в ответ. — Никогда нельзя сказать, что реально.
— Не парь мозги...
— Смотри лучше! Тебе понравится.
Марионетки неуклюже поклонились, и спектакль начался. Глядя на их дерганые, судорожные движения, Муха морщился от отвращения. Совсем рядом, всего в паре метров от него, с глухим стуком бились об пол босые ступни, безжизненно мотались из стороны в сторону головы. Это было жутко и в то же время завораживало, намертво приковывало взгляд. Муха думал о боли, о том, могли ли они чувствовать ее в пробитых конечностях, и пальцы его впивались в подлокотники так, что побелели костяшки, в животе похолодело. Он не хотел видеть, но боялся, что если отвернется или закроет глаза, то кто-нибудь — может, Хвощ или один из «актеров» — дотронется до него, и тогда он не выдержит и закричит.
Через некоторое время, несмотря на всё усиливающийся страх, Муха начал улавливать некий смысл в представлении, идущем пока без всяких слов. «Куклы» кого-то напоминали ему. Один из изувеченных мальчишек, тот, что повыше, был одет в странно знакомую джинсовую куртку, подбородок и щеки его покрывала серая краска, а волосы были нелепо взлохмачены. Второй носил за спиной ранец. Обычный детский ранец, с Дональдом Даком. Он сам носил такой в начальной школе. Это все что-то значило, но вот что именно, Муха ещё не мог сообразить. Паззл, кусочки которого разыгрывались на сцене, никак не желал собираться воедино.
И только когда высокий повесил на драпировку фотографию какой-то женщины, Муха понял. Зубы его застучали.
Он ведь никому никогда не рассказывал о своих родителях, держал всё в себе, хранил, берег, как сокровище. Откуда им известно?! Хвощ на соседнем кресле беззвучно смеялся, а по щекам его текли слезы. Этот психованный урод за всё ответит, за все получит. Но позже — сейчас Муха должен был досмотреть.
На сцене мальчик-марионетка в джинсовой куртке ударил кулаком по фотографии. Брызнули в стороны осколки, исказился любимый образ. Второй мальчик, изображающий тихого забитого второклассника, медленно подошел, и первый протянул к нему руку — кто знает, для чего, может, чтобы просто потрепать по волосам. Но второклассник увернулся и зашагал прочь.
— Вернись немедленно, сукин сын! — голос шел откуда-то из глубины, из-за сцены, и в нем было мало человеческого. Вздрогнув, Муха сжался, словно опасался удара. Он знал, что сейчас произойдет.
Школьник развернулся, и в руке его оказался нож. Короткое, едва уловимое движение — лезвие вошло в живот мальчика, изображавшего отца, тот жалобно вскрикнул и отшатнулся. Еще один взмах, еще один. Отец падает на колени, истекая кровью, и тут сын с размаха бьет его ножом в горло, а потом в лицо.
Муха вскочил с кресла и, оттолкнув пытавшегося ему помешать Хвоща, помчался вверх по проходу. Прочь, прочь отсюда! Но на середине он вдруг замер, от ужаса не в силах ни крикнуть, ни вдохнуть. Впереди, в непроглядной темноте, кто-то стоял.
— Не понравилось? — раздался голос, вкрадчивый, но глубокий.
Муха сжал кулаки и крикнул, собрав остатки храбрости:
— Я не делал этого! Не делал!
— Не делал, — согласился тот, кто был впереди, но теперь голос прозвучал немного ближе. — Просто хотел сделать. Просто винил себя, что так и не решился.
— Не подходи! — взвизгнул Муха. Он жалел сейчас об очень многих вещах: о том, что попал в детдом, о том, что наехал на Хвоща, о том, что так и не выкинул билет, пока была возможность — все вместе привело его сюда, в это проклятое место.
— Ты боишься меня? — неизвестный приближался: уже виднелся светлый овал лица, и свет сцены отражался в круглых черных стеклах очков. — Не надо бояться. Я не создаю марионеток. Вас изготавливают там, с той стороны занавеса. Я всего лишь постановщик.
Он подошел почти вплотную. Муха вдруг вспомнил мать. Отрывочный, мимолетный, но удивительно яркий образ. Мама гладит белье на кухне, а из окна льется белый весенний свет. И еще запах. Пахло творогом.
Постановщик нагнулся к нему:
— Ты почти идеален. Уникальный экземпляр. Главная нить уже в тебе. А остальное не проблема.
Муха взглянул в черные стекла:
— Отпустите меня.
Постановщик улыбнулся:
— Добро пожаловать в мой театр!
С легким шелестом из темноты спустились медные нити и впились Мухе в тело, пронзая плоть, закручиваясь вокруг запястий и лодыжек. Где-то сзади безумно, надрывно засмеялся Хвощ. Муха не кричал. Только вздрагивал и стонал от боли, стиснув зубы, а когда нити потащили его вверх, успел понять, что под черными очками палача не было глаз.
Дмитрий Тихонов