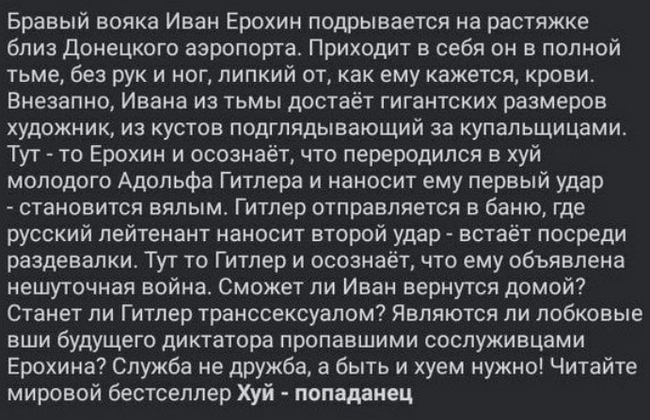Тьма. Не та, что бывает ночью, когда глаза привыкают и проступают силуэты. Это была абсолютная, бархатная, всепоглощающая тьма, не имеющая ни глубины, ни перспективы. Иван Ерохин существовал в ней как точка сознания, лишенная тела, слуха, обоняния. Осталась только память: ослепительная вспышка, грохот, вырвавший с корнем мир, и ощущение полета, которое обернулось падением в ничто.
Он пытался пошевелиться — ничего. Попробовал крикнуть — тишина. Его «я» плавало в черной пустоте, словно капля масла в космическом океане. Постепенно к нему стало возвращаться одно-единственное чувство — липкость. Мерзкая, вязкая, повсеместная. «Кровь, — пронеслась первая мысль. — Я истекаю кровью». Но где рана? Где тело? Он был этой липкостью.
Прошло время — секунды, часы, годы? — он не мог сосчитать. И вдруг тьма дрогнула. Гигантская тень отделилась от общего мрака, и его сознание, эту одинокую точку, вырвало из небытия с силой взрыва.
Ослепительный свет. Зелень. Запах нагретой хвои и пыли. Иван моргнул. У него снова были глаза. Но что он видел? Огромные, как стволы столетних дубов, ноги, заросшие рыжими волосами. Громадную кисть руки, сжимающую угольный карандаш. Он лежал на чьих-то коленях, а взгляд гиганта был устремлен куда-то вперед, за густые заросли кустарника. До Ивана донесся смех — женский, звонкий, и плеск воды.
«Художник, — с отвращением подумал Иван. — Подглядывает за купальщицами. Мразь».
Он попытался приподняться, чтобы разглядеть больше, и тут его сознание наконец-то установило связь с реальностью. Не с той, что была вокруг, а с той, что было он сам. Ни рук. Ни ног. Ни туловища. Он был… он был одним единственным, отдельно взятым органом. Мужским достоинством. И лежал он на папке для эскизов, а липкость, которую он принимал за кровь, была обычным потом жаркого летнего дня.
В его мозгу, еще хранившем командирский хладнокровие, словно пазл, сложилась чудовищная картина. Взрыв. Смерть. Перерождение. И этот неуклюжий великан с усиками и челкой… Имя пришло само, выплыв из учебников истории: Адольф Гитлер. Молодой, еще не фюрер, а всего лишь нищий художник из Вены.
Волна ярости, черной и беспощадной, захлестнула сознание лейтенанта Ерохина. Он прошел через ад Донецкого аэропорта, потерял товарищей, отдал Родине все, чтобы в итоге стать хуем будущего тирана? Нет. Такого не может быть. Этому не бывать.
Первый удар по врагу был нанесен мгновенно и безоговорочно. Силой одной только мысли, воли, выкованной в горниле войны, Иван приказал своему новому «телу» — ослабнуть. Стать вялым, бесформенным, жалким.
Гитлер, только что с азартом делавший набросок, замер. Его сосредоточенное выражение сменилось растерянностью, затем недоумением и досадой. Он сердито швырнул карандаш, сгреб эскизы и, бормоча что-то под нос, грузно поднялся. Иван, болтаясь при походке, как ненужный придаток, наблюдал за миром с высоты человеческого роста. Так вот она, Австро-Венгрия начала века. Грязновато, но красиво.
Цель у будущего фюрера была очевидна — баня. Видимо, он решил, что холодная вода вернет ему боевой дух. Иван мысленно усмехнулся. «Неправильно решил, гад».
В раздевалке, заполненной паром и гулом голосов, Гитлер сбросил одежду. И вот он, звездный час лейтенанта Ерохина. Пока Адольф намыливал голову, Иван собрал всю свою ненависть, всю тоску по дому, всю боль от потери товарищей. Он сконцентрировался. Он вспомнил команду «В атаку!». И он… встал. Твердо, уверенно, словно знамя над поверженным рейхстагом. Прямо посреди раздевалки, на всеобщее обозрение.
В бане на секунду воцарилась тишина, затем раздался сдержанный смех. Гитлер, смывая мыло с лица, открыл глаза и все понял. Его взгляд упал вниз, и в его глазах Ивана прочел не просто смущение. Он прочел шок, ярость и… животный, первобытный страх. Это был взгляд человека, который столкнулся с чем-то иррациональным, с врагом, которого нельзя понять и которым нельзя управлять. Врагом внутри себя.
Война была объявлена. Нешуточная.
Следующие дни превратились для Ивана в череду диверсионных операций. Он изучал врага, его режим, его слабости. Он вставал в самые неподходящие моменты: во время важных разговоров Адольфа с другими художниками, при виде полицейского, при попытке заигрывания с горничной в общежитии. Гитлер метался. Он искал у себя признаки странной болезни, стыдился, злился. Он стал замкнутым и подозрительным.
А однажды ночью, когда Гитлер ворочался в постели, измученный бессонницей, Иван почувствовал странное шевеление. Не зуд, а именно шевеление. Он сфокусировал свое восприятие и с ужасом, смешанным с безумной надеждой, различил крошечные, едва уловимые сигналы. Они были похожи на азбуку Морзе, которую выбивал костяшками пальцев его замковый, рядовой Сидоров, когда они сидели в засаде. Тот самый Сидоров, который вечно чесался и шутил про «окопных диверсантов» — вшей.
«Сидоров?.. Петров?.. Это вы?» — мысленно крикнул Иван.
В ответ донесся едва слышный, знакомый голосок: «Товарищ лейтенант? Вы живы? Мы тут, в окопах… засели. Темно, сыро, но держимся».
Их нашли. Его ребят. Пропавшие сослуживцы Ерохина, переродившиеся в лобковых вшей будущего диктатора. Война обрела новый смысл. Это была не просто месть. Это была операция по спасению личного состава и подрыв врага изнутри на самом глубинном, интимном уровне.
Сможет ли Иван вернуться домой? Сможет ли он, собрав своих «бойцов», найти портал обратно? Станет ли Гитлер транссексуалом, доведенный до отчаяния войной с собственным непокорным органом? Пока неизвестно.
Но одно лейтенант Ерохин понял точно: служба — не дружба, а быть и хуем — нужно. И он будет им. Самым бравым, самым несгибаемым хуем-попаданцем в истории. Его война только началась.