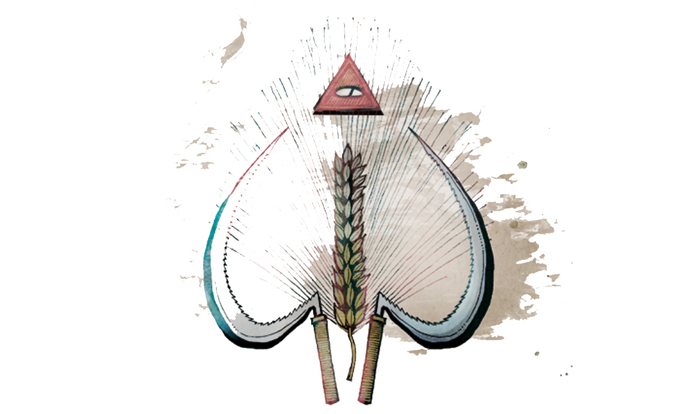Мир без медицины. Часть 3
Часть 1: https://pikabu.ru/story/mir_bez_meditsinyi_6754028
Часть 2: https://pikabu.ru/story/mir_bez_meditsinyi_chast_2_6755624
Она пролежала так трое суток — в полотенцах, погружённая в мертвенный опиумный сон. Чудотворное бабкино молоко быстро заканчивалось, и к ней то и дело приходилось посылать за добавкой, меняя пузырьки на куски Курлихиного мяса.
А погода тем временем наладилась. Дождь перестал, дни наступили солнечные и жаркие, и земля понемногу начала высыхать, избавляться от влаги.
— Помогло, помогло Радение! — говорил повеселевший Староста.
Целыми днями он бегал теперь от дома к дому, стучался в двери, заглядывал в окна — проверял, не отлынивает ли кто от работы. Угрожал, шантажировал и молил. Поле надо было убрать срочно, пока дожди не вернулись. Собранного в июле озимого урожая едва хватало для собственных нужд, а эта, яровая рожь вся целиком предназначалась на обмен, ее нельзя было потерять. Норма обмена всегда была одна и та же — жесткая, не подлежащая торгу, и даже в годы, когда рожь болела и родилась плохо, деревня смирно подвязывала пояса и влезала в собственный зимний запас, а случалось, и в зерновой резерв, потому что в обмен на ржаную муку, упакованную в мешки и готовую к долгой дороге, прибывали издалека драгоценная древесина, шерсть, железо и уголь, которых иначе негде было взять и без которых зиму было не пережить. Уговор, установленный полвека назад, был могуч и незыблем так же, как смена сезонов. Превратился в закон, оспаривать который из ныне живущих давно уже было некому, они просто не знали другого расклада.
Поле сохло слишком медленно, потому что по Умниковым каналам от реки по-прежнему шла вода, совершенно теперь ненужная, и на третий день ясной погоды Староста решился ломать плотину. В другое время Умник спорил бы, доказывал, что бесценные брёвна полопаются от рывка или их просто унесёт дальше по реке, и когда снова начнётся засуха, новую плотину строить будет не из чего. Может, даже бросился бы к Рыбаку и уговорил его закончить чертёж шлюза. А сейчас ему всё стало безразлично, он даже не пошёл на реку. Охраняя избу от любопытных соседок, он все дни сидел возле спящей Белки. Обтирал её мокрым полотенцем, лил в рот сладкую воду, слушал — дышит ли. Девочка бледнела и исчезала, нос заострился, губы стали синие. Этот маковый сон был больной, тяжёлый, всё больше похожий на смерть. Чёртово бабкино зелье травило её.
Вечером третьего дня Кузнец отправился к Травнице за молоком и вернулся ни с чем: старуха отказала. И дело было не в том, что закончилось мясо, — просто средство и правда было сильное, слишком даже для крепкого взрослого человека, дольше держать на нём слабую девочку было нельзя. К тому же люди начинали болтать. Страшный припадок в храме и то, что никто из соседей Белку с тех пор не видел, притихшие зарёванные дети и запертая дверь — всё это в совокупности давало слишком богатую пищу для слухов. Непонятных хворей в деревне не любили и боялись, но ещё сильнее люди теперь не любили тайны. Злить Кузнеца никому, конечно, не хотелось, и даже Староста до поры вёл себя осторожно, в избу больше не рвался и с работой не приставал, но разговоры пошли, и остановить их было уже невозможно. Если маленькая кузнецова жена померла, почему не хоронят? Если не померла, отчего не показывают?
— Ладно, дед, — хмуро сказал Кузнец, когда сели ужинать. — Пускай просыпается, что уж. Сладим как-нибудь.
Караулить условились по очереди, но почему-то вышло, что не спали оба, просто не сумели сомкнуть глаз и до утра бродили, шатались по тёмной избе, как два медведя. Молчаливые, тревожные, готовые ко всему.
На рассвете Белка вздохнула, зашевелилась и тут же испуганно заскулила, потому что не смогла поднять руку — мешали верёвки, развязать которые до времени никто из них не решился. Она всё ещё выглядела как покойница: жёлтая, исхудавшая до прозрачности, с сухими в корках губами, но глаза под рыжими ресницами снова смотрели мягко, голос был жалобный и родной.
— Деда, — позвала она со своей лежанки. — Ох, мамочки, да что ж это? — и заплакала тоненько, как ребёнок, и Умник сразу кинулся к ней, задыхаясь от облегчения и стыда, резать проклятые верёвки, вытирать ей слёзы, гладить влажный веснушчатый лоб.
Его детка, его нежная рыжая радость — последняя, бесценная, недалёкая рябая девочка, в которой неожиданно сошлось, совместилось всё, что осталось ему от Марты, от мёртвой дочери, от всей его долгой бессмысленной жизни, — всё-таки вернулась к нему. А ведь он почти уже сдался и потерял надежду, почти приготовился умирать.
После все ушли в поле, чтобы успокоить наконец Старосту, а старик остался. Неумело сварил для Белки комковатую ржаную кашу и смотрел потом, как она ест — жадно, давясь, и радовался тому, как с каждой ложкой лицо её понемногу розовеет. Он согрел ей воды и принёс чистое платье, расчесал волосы; он достал бы ей звезду с неба, если б мог.
День был погожий, и он вывел девочку во двор, усадил на солнце и стал рассказывать — про то, каким зычным басом поёт старуха Травница, совсем как отец Симпатий, только без бороды; про плотину, которую идиот Староста всё-таки вчера разломал, потеряв половину брёвен и едва не утопив обоих быков. Он даже выпучил глаза и зашлёпал губами, изображая глупую Старостину физиономию, — перед этим она не могла устоять и всегда хохотала, замирая от весёлого ужаса и оглядываясь, чтоб не увидел Кузнец. Но сегодня Белка не смеялась. Сидела больная, тихая и безучастная и временами даже как будто задрёмывала.
И тогда он принёс ей свою вишню. Крохотное деревце в глиняном горшке, которое он второй год прятал в дальнем углу чердака и выносил на солнце только когда оставался в доме один. Она проросла прошлым летом на капустной грядке: маленький слабый побег, худосочная веточка, которую он собрался было выдернуть, но вдруг узнал мягкие войлочные листочки — и отдёрнул руку. Попытался вспомнить, когда в последний раз видел дерево: не бревно, не обструганную доску, а живое, настоящее дерево с шелестящей кроной — и не смог. Чёртова Матушка-Рожь захватила всё вокруг на сотни километров, и до самого горизонта, куда хватало глаз, были только ровные возделанные поля да огороды. Так велел Уговор: тучной плодородной почвы слишком осталось мало, и вся она, до последнего клочка, должна была превратиться в пахотные земли. Лес добывали в других, далёких местах, где от полей не было толку.
Словом, бедная вишня была обречена, но он всё равно выкопал её, пересадил в горшок и спрятал на чердаке, сам не понимая, зачем: ещё год-другой — и она перестала бы там помещаться, да и ягод в одиночку не дала бы. А потом весной она зацвела мелкими розовыми цветами. Ему до смерти захотелось тогда показать её Белке, но он не осмелился, простодушная девочка сразу же проболталась бы, а ему так хотелось ещё хоть раз увидеть цветы. Но теперь это было неважно. Он бы отдал все вишни в мире, лишь бы девочка улыбнулась.
Он поставил горшок на землю. Вишенка была мелкая, кривенькая и давно уже отцвела, но всё равно она была — дерево. Диковинное, никогда не виданное. И Белка в самом деле проснулась, захлопала ресницами, глаза у неё стали детские и круглые, и он представил, как расскажет ей сейчас про розовые цветы, про красные сладкие ягоды, которых она не пробовала ни разу и вкуса которых сам он уже не помнил. Как она будет слушать, недоверчиво и радостно, и как потом, скорее всего, обо всём забудет — память у них теперь была короткая, тесная, и хватало её только на самые простые вещи — пусть, неважно. Сейчас она была счастлива.
Улыбаясь, она потянулась, чтобы тронуть красную блестящую ветку, — и вдруг охнула и прижала руку к груди, и он увидел её пальцы: чёрные, вздутые, неживые, как резиновая перчатка.
Старуха была ему не рада. Дверь открыла нешироко и в дом не позвала, встала на пороге, расставив могучие ноги. Вид у неё был заспанный, седые волосы рассыпаны по плечам; скорее всего, он разбудил её.
— Молока не дам, — начала она хмуро.
— Мне нужна ваша книга, — перебил он, и она сразу вздрогнула и проснулась; лицо пошло пятнами, глаза заметались.
Но улица была пуста, изнурённая работой деревня спала. Она схватила его за руку и втащила в сени.
— С ума сошли? — прошипела она сквозь зубы. — С чего вы вообще взяли, что у меня есть книга?
— Я знаю, что она у вас есть, — ответил он. — И вы мне её сейчас отдадите.
— Ничего я вам не дам. Вы не в себе. Уходите сейчас же.
— Если вы меня прогоните, — сказал он с трудом, потому что сердце поднялось к горлу и разбухло, перекрывая воздух, — я встану у вас под дверью и буду кричать. Я буду кидать вам камни в окна. И мне всё равно, что со мной сделают. А уж с вами — тем более.
— Неблагодарный вы человек, Умник, — медленно произнесла старуха. — Всё забыли. А я много сделала для вас когда-то.
Когда-то и ты была другая, подумал Умник. Живая, жалостливая. Нежадная. Без амулетов, без плясок, без стыдного этого корыстного шарлатанства. Тогда ты ещё правда хотела помочь. Три дня просидела у Мартиной постели и плакала вместе со мной, когда она умерла. А теперь ты больше не плачешь. Давно уже не плачешь.
Только говорить всё это было незачем, и потом, у него не было времени на разговоры. Старуха скрылась в сумрачном своём доме, недолго погромыхала там чем-то и вернулась, протянула ему затрёпанный ветхий томик с выпадающими листами.
— Вот, — сказала она с ненавистью. — Держите. Но если вы попадётесь, если вас кто-нибудь увидит... Вы понятия не имеете, чего мне стоило достать её.
Добравшись до дому, он зажёг свечу и разложил по столу разрозненные, жёлтые от времени странички. Он был неосторожен и знал это, но осторожность не имела больше значения.
...эпилептический припадок сопровождается... тонические конвульсии... резкие сгибания конечностей... вследствие избыточного слюноотделения...
...некроз пальцев... омертвение участков... чёткая граница между чёрной и розовой кожей... у больных сахарным диабетом...
Мелкие буквы расползались, как муравьи, тонкие строчки издевательски прыгали. Он был близко, совсем близко, ответ прятался прямо у него перед носом, но старые глаза отвыкли от чтения и не служили ему. Взять бы сейчас припрятанный Старостой бинокль, выломать линзу.
Белка застонала во сне, и он вскочил, едва не опрокинув свечку, подбежал и склонился над ней. Девочка как будто стала ещё меньше, ещё прозрачнее. Верхняя губа задралась, лоб блестел от пота. Левая ладонь распухла и почернела почти до самого запястья.
— Не стал я её вязать, — негромко сказал Кузнец со своей лавки. — Жалко. Или, думаешь, надо?
— Нет, — ответил Умник. — Не надо. Пускай поспит.
Он вернулся к столу, придвинул свечу поближе и снова начал водить пальцем по строчкам. Прятаться теперь было незачем.
— Слышишь, дед, — спросил Кузнец из темноты. — Поможет эта штука твоя?
Проснулся он оттого, что снаружи кричали. Свеча догорела, закапала воском бесценные старухины страницы. Затёкшая спина онемела. Он с трудом поднял голову, оттолкнул стул и встал, оглядел комнату. Лунный свет лился внутрь через крошечное окно, на полу лежало скомканное одеяло. Белкина лежанка была пуста. Крик повторился, набрал силу, соединяясь с другими голосами, и он бросился вон из избы, столкнувшись в сенях с Кузнецом — огромным, жарким со сна. Они побежали по пыльной улице, прохладной от росы, мимо соседских огородов и крепкого Старостиного дома с крашеным петухом на коньке крыши, и старик отстал поначалу, потому что ноги никак не хотели слушаться, а из лёгких к горлу поднимался жидкий огонь, но тут Кузнец встал как вкопанный.
Она успела пройти далеко, почти до самого храма. Даже издали, с двадцати шагов, легко было разглядеть, что это снова не Белка, а та, другая, которая прошлой ночью укусила мужа в плечо, а после попыталась разбить себе голову. Залитая холодным лунным светом, в длинной измятой рубахе, она шла медленно, неловко задирая ноги и судорожно взмахивая руками, подпрыгивая и дёргаясь, как будто маленьким этим слабым телом неумело управлял снаружи кто-то другой; как будто к щиколоткам её и запястьям привязаны были верёвки и кто-то невидимый дёргал за них сверху.
В сонной полуодетой толпе, высыпавшей на улицу, Умник узнал Старосту в нечистых льняных подштанниках, седую неприбранную Травницу и толстую Курлиху-молочницу — босую, простоволосую, с гигантскими тяжёлыми грудями.
— Ой, горе, — застонала Курлиха жалобно и сладко, затрясла жирными щеками.
Щуплая фигурка посреди дороги тут же замерла, с хрустом выгнула шею и свернула, пошла на голос. Курлиха завизжала теперь уже всерьёз и отпрыгнула, повалилась на пудовый зад, потому что разглядела наконец искажённое судорогой лицо, закатившиеся глаза и чёрные скрюченные ладони. И разбуженная её визгом толпа зашумела, всколыхнулась, кто-то кинулся за верёвкой, принесли мешок, навалились вдесятером, замотали и поволокли, и Умник бросился следом, думая — они ведь сейчас убьют её, дотащат до запруды и бросят в реку — вот так, завязанную в мешок, как утопили четыре года назад красивую жену Гончара, которая приспала ребёнка, с горя тронулась умом и однажды среди бела дня побежала по деревне голая, с нечёсаными волосами.
Но тут высокая храмовая дверь распахнулась, из свечной золотистой тьмы появился отец Симпатий с седой всклокоченной бородой, в наспех натянутом платье, и закричал грозно, повелительно простирая руки. И толпа очнулась и послушно потекла к паперти, уложила ему под ноги спелёнутое тело и попятилась, глухо многоголосо ворча: бесноватая, ведьма, пальцы у ней чёрные...
Всё теперь зависело от строгого Отца, который, как известно, насилия не одобрял и временами посягал даже на самую основу деревенского семейного уклада, запрещая мужьям калечить своих жён, а особо усердствующих даже грозил выгнать из храма.
Конечно, изгнание беса следовало отложить до восхода Солнца, когда нечистые твари слабеют; и потом, обряд был сложный, требующий серьёзной подготовки. Но хрип из-под мешка раздавался совсем уже страшный, нечеловеческий, а люди были слишком измучены тяжёлой работой, нехваткой сна, дождями и тревогой за гибнущий урожай, и ясно было, что до утра они могут не дотерпеть и попытаются завершить судилище. Видимо, об этом же подумал и Симпатий, потому что одёрнул платье, пригладил бороду и велел нести бесноватую в храм сейчас же, прямо посреди ночи.
Пока зажигали свечи и готовили чашу, пока Отец надевал облачение, девочка замолчала, перестала биться и лежала теперь ничком — неподвижное жалкое тельце, худенькое, с детскими пыльными пятками. Под мешком Умник не видел её лица и надеялся только, что это обморок, что никто из тех, кто вязал её и тащил, случайно или намеренно не причинил ей вреда. Паства — нечёсаная, в подштанниках и нижних рубахах, неуверенно топталась вдоль стен, уже смущённая своим неподобающим для храма видом, а обряд всё не начинался. Отец неторопливо расправлял одежды, прочищал горло, и Умнику показалось даже, что Симпатий медлит нарочно, рассчитывая, что толпа остынет и успокоится. Это не было спасением, но, по крайней мере, обещало отсрочку. Если она не очнётся, не закричит и снова не напугает их, думал Умник, им придётся признать, что обряд подействовал, и тогда я заберу её домой. Спрячу, запру и подумаю ещё. И даже если я подведу её, если не найду средство. Даже если она всё равно умрёт, это случится позже и не так. Не в мешке.
План был слабый, негодный, но, кажется, единственный. И он мог сработать, потому что девочка не шевелилась, и отец запел уже свою молитву — вполголоса, ласково, словно тоже боялся разбудить её, но тут кто-то вдруг упал и заколотился, застучал ногами. Закричала женщина, за ней другая, а потом люди шарахнулись в стороны, и на полу возле жертвенника Умник увидел безымянную белобрысую малышку, которая прибегала недавно к запруде с мёртвым мобильником в чумазой ладошке и до полусмерти испугала Рыбака.
— Перепрыгнул! Перекинулся бес! — завопили вокруг, и народ, давя друг друга, кинулся к выходу.
Припадок был точно такой же, с судорогами и пеной, но теперь он хотя бы знал, что делать: перевернуть на бок и держать голову. Когда всё закончилось, старик огляделся и увидел, что в храме остались только он, Пастырь, Кузнец, и две больных девочки на полу. Склонившись над Белкой, Симпатий распутывал верёвки.
— Чего стоишь! — закричал от двери Кузнец, мертвенно бледный, с глубокой царапиной на щеке. — Тащи свою штуку, один я их не сдержу!
Продолжение следует.
Автор: Яна Вагнер
Художник: Олег Пащенко