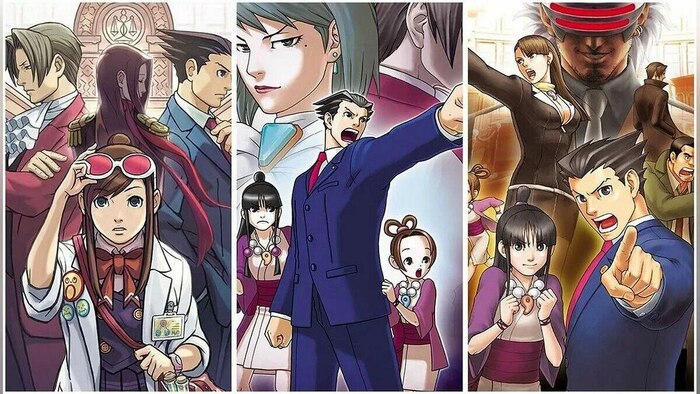Рассказ «Матушка»
Часть 2\2
Я стоял на том же месте у реки, напротив каменного алтаря. Ноги сами привели меня сюда. Словно сознание на секунду выключилось и включилось снова, отрезав кусок пути. Как в том фильме, где парень принимал таблетки для ума и терял куски времени. Я резко, с выбросом адреналина, обернулся, чувствуя, как по спине бегут ледяные мурашки. И чуть не столкнулся грудью с тем самым мужиком, что приносил хлеб. Его добродушное лицо было искажено неподдельным, животным испугом.
— Ты чего это её гневишь-то, паря? — прошипел он, хватая меня за рукав цепкими, мозолистыми пальцами. — Не шути с этим! Видишь, она уже дорогу тебе закрывает. Иди, задобри её, пока не поздно! Сделай, как все! Хоть монетку положи!
Во мне всё взорвалось от злости, бессилия и этого дурацкого, удушающего суеверия. Но я сглотнул ком в горле, подавил дикий крик, готовый вырваться наружу. Сквозь стиснутые зубы, вежливо насколько смог, выдавил:
— Хорошо. Обязательно. Сейчас. Спасибо.
Он отпустил меня, недоверчиво хмыкнув, и быстро зашагал прочь, оглядываясь через плечо на темную воду, будто боялся увидеть что-то.
Я глубоко, с дрожью, вздохнул, собрался с мыслями и снова пошёл к автовокзалу. Шёл уже почти бегом, сердце колотилось, как птица в клетке, не оглядываясь, глядя только вперёд, к цели. Вот он — поворот. Вот здание, уже ближе...
И снова. Резкий, тошнотворный провал в восприятии, будто мир на миг выцвел в негатив. Моргнул — и я снова стою на берегу. Прямо перед камнем с дарами. Песок под ногами был мокрым и холодным, вязким, как трясина.
Второй раз. Второй раз!
Рациональные объяснения кончились, оборвались, как тонкая нить. Воздух вокруг стал густым и тяжелым, как вода в заболоченном пруду, им стало трудно дышать. И пахнет он теперь навязчиво, невыносимо — тиной, гнилью и горькой полынью. Я не могу уехать.
Разум, хватаясь уже буквально за воздух, шептал одно: надо звонить Андрюхе, услышать знакомый голос, почувствовать тот самый простой, человеческий смех, слегка охрипший от дыма, выговориться насчёт этой деревенской экзотики — именно так выглядела бы эта мысль в здоровом человеческом сознании. Рука дрожью полезла в карман за телефоном. Экран был немым. Не «нет сети». Вообще ничего. Пустота. Даже не знаю, какой тут оператор должен ловить. Увидел того самого мужика с хлебом, он копался у забора. Подошел, пытаясь придать лицу нормальное, неискаженное паникой выражение.
— Извините, — голос сорвался на сиплый шепот. — У меня связь… Не могу… Можно ваш телефон позвонить? Срочно нужно.
Он недоверчиво протянул свой старенький, в царапинах смартфон, косясь на меня и мой дорогой аппарат. На его экране тоже красовался зловещий крестик.
— У меня не ловит, — пробормотал он, отводя глаза. — Хозяйка, видать, на что-то гневается. Надо задобрить, паря, пока не поздно. Серьезно тебе говорю. — В его голосе не было угрозы, только усталая, древняя покорность.
Попробовал у другого, какого-то парня помоложе, чинившего мопед. Только начал: «Слушай, а можно…» — а он так резко отшатнулся, будто я протянул ему раскаленный уголек, а не телефон. Его глаза расширились, он втянул носом воздух с резким, шипящим звуком и отвернулся, демонстративно занявшись цепью. И так — с каждым. Женщина с ребенком буквально шарахнулась в сторону, прижав дитя к себе. Они не просто отказывали. Они втягивали носом воздух, их ноздри трепетали, будто от меня и правда несло чем-то мерзким, падалью и тиной. Может, и вид у меня был уже соответствующий — небрит, глаза, наверное, дикие, запавшие, одежда помята после бессонной ночи.
Пешком уйти? Слышал, по трассе тут даже волки бродят. Да и куда идти-то? Десятки километров до города по незнакомой дороге, которая, как я уже знал, имеет свойство замыкаться сама на себе.
В отчаянии, с чувством полной потери почвы под ногами, побрел по деревне и увидел ту самую бабку. Она сидела на лавочке, что-то щипала в миске. Подошел, пытаясь скрыть дрожь в руках, вежливо, насколько позволяли сжатые голосовые связки:
— Бабушка, ради Бога, объясните, что здесь происходит? Может, в воде какие-то психотропные вещества? Скотомогильник рядом старый?
Она резко, почти грубо швырнула миску на землю, ее глаза, обычно мутные, стали острыми, колючими:
— Молчи уже! Лихо-то уже близко, чует жертву! Слышит, как ты трещишь! Не сделаешь ничего — утащит в лес, и косточек твоих белых не соберут. Иди, пока не поздно!
Я засмеялся. Резко, громко, истерично — прямо в её сморщенное, серьёзное лицо. Два высших образования. Десятки спроектированных зданий. Разумный, прочный мир из стекла и бетона. И этот бред? «Лихо»? «Голубошерстное»?
Я развернулся и рванул к дому, почувствовав себя не хозяином, а загнанным зверем в клетке из бревен и суеверий.
Защелкнул засов, захлопнул ставни. Мир снаружи стал враждебным. Достал водку. Не чтобы напиться. Чтобы стереть. Выжечь каленым железом эту навязчивую картинку: мелкие куличики на песке и черную воду, наступающую на них.
Заперся на все щеколды, на засов, задвинул тяжелый деревянный запор, зашторил окна плотной тканью, отрезав себя от этого безумного мира. Достал из пакета литровую бутылку дешевой, обжигающей горло водки, купленную в магазине. К этой вони тины и полыни я вроде бы уже привык, почти не чувствовал. Но сейчас она снова ударила в нос, едкая, густая, прожигающая, словно в дом впустили туман с болота. А еще… звуки. То тихий, булькающий смех из темного угла за печкой. То шепот, словно со дна реки, прямо из-под половиц, влажный и прилипчивый: «Иди… Иди к воде… Матушка ждет…»
Алкоголь, возможно, был ошибкой. Он не заглушил это. Он стер последние барьеры, растворил тонкую плёнку реальности. Я залпом допил оставшиеся пол-литра, чтобы просто отключиться, чтобы нервы не сорвались окончательно. Глоток за глотком чувствовал, как огонь растекается по желудку, но не может прогнать внутренний лёд.
Кошмары пришли сразу, едва я закрыл глаза. Я не спал — я тонул наяву. Видел её снова — та самая девушка, что стояла возле реки. Только сейчас она замерла на самом краю берега, красивая до дрожи, но глаза её смотрели холодно и равнодушно, будто ничего живого давно уже не осталось внутри. А я барахтался посреди воды, которая вдруг стала густой, липкой, почти как смола. Со дна тянулись к моим ногам синеватые, распухшие руки, обвивая лодыжки мёртвой хваткой, увлекая вниз, в холодную, безвоздушную тьму, где мерцали лишь её глаза. Затем видел дочь, Леру. Она играла на песке у воды, лепила куличики, а из реки беззвучно выползали те же руки и тянулись к её маленьким пяточкам…
Я проснулся от резкого, оглушительного стука. Не по крыше — в окно. Стучала вода. Плотные, тяжёлые, размером с монету капли били в стекло с такой силой, словно хлестали из пожарного шланга, заставляя окна вибрировать, хотя за окном, в щелочку между шторами, виднелось сухое небо и недвижные ветви деревьев.
Похмелья не было. Не было ни головной боли, ни тошноты. Была лишь ледяная, кристально чистая, нечеловечески ясная мысль и абсолютная внутренняя пустота — выжженная пустыня. Я сидел на диване, не в силах пошевелиться, глядя в потрескавшиеся доски пола.
Прямо перед порогом, на потертом половике, лежала аккуратная, сложенная со страшной точностью кучка: свежий, сочный пучок полыни, перевязанный черной, похожей на волос ниткой; небольшая дохлая рыбина с мутными, выцветшими глазами и неестественно выгнутым хребтом; три мокрых, гладких, темных камня с реки, уложенные рядом в идеальную пирамидку.
Они лежали внутри дома. Я был здесь один. Дверь была заперта на все запоры изнутри.
Мне кажется, это уже не намёки.
Меня пронзила холодная острая мысль, словно осколок льда прямо в сердце. Лера. Я видел её во сне. Там, у воды, такая маленькая и беззащитная. Тоненькие ручки с ямочками на локотках лепят куличики, звонкий, похожий на колокольчик смех сейчас отзывался в висках ледяным эхом… Нет. Только не она. Это был не просто кошмар. Это было последнее — самое страшное — предупреждение.
Я рванулся к холодильнику, с грохотом распахнул дверцу. Внутри пахло остывшим металлом и пустотой. Схватил первое, что попалось под руку — полускрученную палку сервелата, булку вчерашнего хлеба, заветревшуюся на срезе. Вспомнил, что на камне лежали в основном вещи, сделанные руками, с душой, с трудом. Мои руки тряслись так, что я едва удерживал нож. Я наскоро, скомкано слепил несколько кривых бутербродов, стараясь хоть как-то их прилично оформить, вытирая пальцы об штаны. Налил в кружку молока — газировку такая привереда вряд ли станет пить. Жалкое, нищенское подношение. Но большего у меня не было.
Я сорвался с места, выбежал из дома, даже не закрыв дверь, и побежал к реке, подгоняемый ледяным ужасом. К ней. К той, кого они тут называют... Матушкой.
Выбежал на берег, спотыкаясь о кочки. Подошёл к тому самому камню-алтарю. Мне было плевать на редких прохожих, на их удивлённые или понимающие, полные жалости взгляды. Просто рухнул на колени в сырой, холодный песок, ощутив влагу, проступающую сквозь ткань, и выложил перед тёмным, отполированным временем камнем своё жалкое подношение. Бутерброды легли криво, кружка с молоком подкатилась, грозя опрокинуться.
— Прости... — выдохнул я, и голос сорвался в надрывный, сиплый шепот, в котором слышались слёзы и отчаяние.
— Матушка, прости, не ведал, что творю... Не хотел обидеть, оскорбить твоё место... Не гневайся... Краса ненаглядная... Хозяйка светлая... Заступница...
Я сыпал всеми словами, что приходили в голову, умоляя, унижаясь, обращаясь к чему-то древнему, слепому и страшному, как к последней инстанции, в которую ещё вчера не верил. Кланялся в мокрый песок, чувствуя, как кружится голова.
Ветер, до этого едва колышущий листья, словно прислушиваясь, внезапно зашумел в ветвях старой ивы над моей головой. Он стал сильнее, плотнее, обвил меня, как невидимая река, и в нём появился запах — не тины и полыни, а диких луговых цветов, липового мёда и свежего, только что скошенного сена. Он был неестественно густым, сладким и пьянящим, перебивая все остальные запахи, заполняя лёгкие.
И в тот же миг, оглушительно громко в этой давящей, только что разрядившейся тишине, в кармане пиликнул телефон. Звонок был резким, как выстрел. Я судорожно, чуть не порвав шов, выдернул его наружу. Ладонь была мокрой от пота, и я едва не уронил аппарат. На экране, ярко сияя, светилось сообщение от бывшей жены.
«Привет. Вчера Лера температурила страшно, до 39 доходило, бредила даже. Вызвали скорую, те ничего не нашли. Сегодня как огурчик, скачет, хочет на речку. Странно всё это. Как ты там?»
Я поднял голову и смотрел на реку, на шепчущие, будто благословляющие меня теперь ветви ивы, на свой жалкий, но принятый дар на камне. Воздух больше не пах смертью и тленом. Он пах жизнью. Цветущей, густой, неумолимой и всепобеждающей. Сладкий запах сена смешивался с запахом воды и становился одним целым.
Она приняла извинения. Она отпустила мою дочь. Обмен состоялся.
Я сидел на коленях в мокром песке, и по щекам текли горячие, соленые слёзы — не от страха, а от дикого, всепоглощающего облегчения, смешанного с леденящим душу пониманием. Это не просто чужая деревня. Это Её деревня. Ее удел, ее царство. И я теперь не хозяин в своем доме. Я всего лишь гость. На ее условиях. В ее милости.
Я кое-как встал на ватные, будто чужие ноги, стряхнув с коленей грязь, оставив тёмные мокрые следы на штанах, и зашагал домой, даже не обернувшись назад. Всё стало ясно до ужаса: рациональный мир, гладкий и понятный, словно стекло и бетон, остался позади. Впереди раскинулась другая реальность — древняя, полная ароматов мёда, свежего сена и сырой земли. Теперь мне предстояло здесь обживаться.