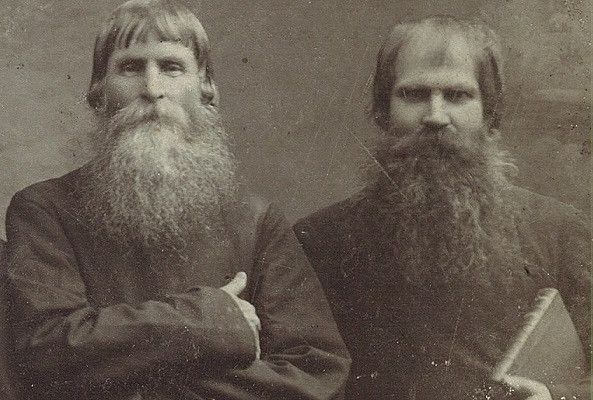Современный Вавилон 3
●Христианский “джихад”. Отход от учения Христа привёл к искажению Его наставлений, превратив их из проповеди о любви и милосердии в учение о жестокости и неприятии. Претерпев значительные испытания в раннем средневековье от мусульман, проводивших джихад, государственная христианская церковь не только не сделала выводов о пагубности и незаконности религиозных войн, но и сама инициировала их, организовав крестовые походы — по сути, христианский джихад, обещавший его участникам вечную жизнь. Выступая в ноябре 1095 года в Клермоне перед собравшейся толпой верующих, папа Урбан II провозгласил: “пусть все верные возьмутся за оружие и выступят вперёд, и Бог будет с вами. Обратите мечи, окроплённые кровью братоубийственных сражений, против врагов христианского имени. Искупите свои грехи — грабежи, поджоги, кровопролития — через повиновение. Пусть славное франкское племя проявит свою отвагу там, где смерть гарантирует блаженство. С радостью встретьте гибель за Христа, где Он умер за вас. Не думайте о доме или родных: вы обязаны Богу высшей любовью, для христианина любое место — изгнание, любое место — родина и приют”. При этом он подчёркивал простоту искупления грехов, предложенного теперь, и смягчение наказаний для тех, кто примет крест” [Робертсон. Указанное произведение. Том 2. Страницы 71–72]. Замечательно, как папа предлагал искупить такие прегрешения, как грабежи, поджоги и убийства, через участие в крестовом походе — войне, где всё это неизбежно присутствует. Этот призыв папы был с восторгом принят практически всеми присутствующими. “Речь папы прерывалась бурными возгласами всего собрания: ‘Так угодно Богу!’ (Dieux le volt)”. Почему же люди разных сословий и возрастов с такой радостью откликнулись на зов к войне, ведь обычно народы идут на войну без энтузиазма, особенно если она инициирована их государством? Не все французы поддерживали Наполеона, немцы — Гитлера или кайзера Вильгельма II. Отличие религиозных войн от обычных, мотивированных политикой или экономикой, заключается в том, что они затрагивают разум и эмоции человека. Мастерски организованная религиозная война ставит на карту вечную судьбу — участь человека и его близких, а это самое дорогое, о чём мы всегда думаем, пусть и бессознательно, и за что каждый готов пожертвовать всем. И каждый устранит любого, кто встанет на пути к его вечному блаженству, к его бессмертию. Это возможно лишь в обществах, не проникнутых учением Христа и лишённых верного понимания принципов спасения. Именно таким было большинство мира как в эпоху крестовых походов, так и сегодня. Путь к бессмертию через такие джихады прост и ясен — уничтожай иноверцев. Более того, он вскоре становится привлекательным, обещая богатства и имущество побеждённых, славу среди соотечественников, удовлетворение страстей с захваченными женщинами. Поэтому призывы к религиозной нетерпимости всегда находили и продолжают находить горячий отклик. Во времена необъяснимых природных катаклизмов, повергающих суеверные общества в страх, всегда нужен кто-то, кого можно принести в жертву, чтобы умиротворить разбушевавшиеся стихии. Эта идея жертвоприношения уходит корнями в Древний мир и сохранится до конца нынешнего века, когда нечестивые, встревоженные бушующими стихиями, попытаются уничтожить детей Божьих, которых обвинят в бедствиях, а те будут исповедовать чистое учение Христа, в отличие от человеческих традиций, принятых остальным миром. Этот мир объединится в общем религиозном рвении, как это было во времена папы Урбана II. “Голод, эпидемии, внутренние волнения, небесные знамения усиливали желание оставить дома и искать спасения в великом деле. Женщины подталкивали мужей, братьев и сыновей принять крест, а отказывающиеся становились объектом всеобщего презрения… Дух религиозного пыла охватил все слои общества… здесь предлагалось полное прощение грехов, отменялись все епитимьи: Бог, по словам одного современного писателя, открывал новый путь очищения от грехов… обещалось, что смерть в этом святом походе сделает их соучастниками славы мучеников” [Робертсон. Указанное произведение. Страницы 72, 73]. Вскоре подобные крестовые походы были направлены против славян, Руси, альбигойцев, вальденцев, чехов — всех, кто не подчинялся папе. Ужасные события, такие как Варфоломеевская ночь, Сицилийская вечерня, избиение протестантов в Нидерландах, оставили мрачный след в истории человечества, пятно, которое не стирается не только из-за масштабов, но и потому, что постоянно омывается кровью как тех, кто ищет бессмертие через христианские “джихады”, так и тех, кого уничтожают эти современные крестоносцы.
● Через аскетизм и уход от мира. Пик добрых дел, как неотъемлемой части пути к вечной жизни, ознаменовался внедрением в христианство убеждения, что залогом спасения и обретения бессмертия служит аскетизм и отшельничество. Эта концепция, во-первых, дала начало монашеству, которое на западе со временем приобрело зловещие черты — в образе иезуитов, инквизиторов-доминиканцев и воинствующих тевтонцев. Во-вторых, она воплотилась в уничижении тела через посты и самобичевание, что в средние века демонстрировалось публично во время особых религиозных шествий. И в-третьих, в… исихастском учении, расцветшем в Византии XIV века. В тот период некогда великому Второму Риму приходилось переживать тяжёлый упадок. Государство доживало последние десятилетия, и это была уже не полноценная жизнь, а скорее угасание, агония, растянувшаяся на годы из-за ряда обстоятельств, что сделало её ещё более мучительной и пугающей. И вот “В условиях постоянной нужды, войн и раздоров интеллектуальная жизнь Византии всё больше погружалась в мистицизм в одной из самых зрелых его европейских форм — исихастском движении (от греческого ήσυχία — тишина, уединение, отрешение). Корни этого учения и аскетической практики уходят в раннее средневековье, в монашеские общины Египта и Сирии. В начале XIV века монах Георгий Синаит возродил исихастскую традицию на Афоне. Основой практики служила идея погружения в себя и слияния с Богом через внутреннее просветление. Такое состояние достигалось длительной тихой молитвой, повторяемой многократно, в сочетании с особым положением тела, контролем дыхания и кровообращения, что сближало поздний исихастский опыт с йогой” [Дашков С. Б. Императоры Византии. Москва: Красная площадь, 1996. Страница 295]. Видным сторонником исихастского движения стал Григорий Палама (1296–1354), разработавший его теоретическую базу и причисленный православной церковью к лику святых (память 14 ноября). Вот как Православный словарь описывает их веру, согласно которой, как они полагали, “существует вечный, несотворённый божественный свет, который некогда сиял на горе Фавор во время Преображения Господня, а в XIV веке озарил их как награду за отшельническую жизнь. Для поддержания и усиления этого света они проводили дни и ночи в коленопреклонённом положении, опуская голову на грудь и устремляя взгляд в центр живота (в область пупка)” [Полный Православный Богословский Энциклопедический словарь. В 2 томах. Москва: Возрождение, 1992. Том 1. Страница 966]. Именно так жил Григорий Палама, проводя время “в полном одиночестве, тишине и молитве… От бесконечных бдений, постов и сырости пещеры, служившей ему обителью, он заболел, рискуя жизнью, и наставники посоветовали ему сменить место” [Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. Москва: Канон, 1995. Страница 347]. Переехав на Афон, он с не меньшей преданностью продолжал эти духовные практики и обосновал их теологически. “Чтобы укрепить живой опыт веры догматически, Палама выдвигает концепцию о вечно сияющих, обильно изливающихся из Божества энергиях (действиях), к которым приближает постоянная молитва и через которые человек может сближаться с Богом, то есть обретать обожение, если только полюбит Бога чистой любовью… евангельским подтверждением этих божественных энергий для святого Григория служит ‘нетварный свет Преображения Христова’. Приобщение к нему истинно, когда оно охватывает не только разум, но душу и всё тело человека” [Григорий Палама. Указанное произведение. Страница 354]. Его оппоненты указывали, “что молитвенное единение с Богом исихастами достигается почти механически через особое ‘согнутое’ положение тела, задержку дыхания, сосредоточение взгляда на себе и бесконечное повторение Иисусовой молитвы” [Там же. Страница 352]. Несмотря на искренность Паламы и его последователей, исихастское учение было по сути “христианской” разновидностью йоги. Приводя себя постами и неподвижностью до состояния транса, исихасты, подобно йогам, теряли ощущение собственной личности, сливались с невидимым, различая лишь возникающий свет. Такое явление света объяснимо с физиологической точки зрения. Ведь мозг, долго лишённый питания, начинает функционировать некорректно из-за нехватки кислорода, и в таком состоянии человеку кажется, что вокруг всё колеблется и светится. В этом состоянии человек становится уязвимым для влияния тёмных сил, которые, похоже, внедрили, казалось бы, чуждое христианству учение йоги в церковь. Сатана внедрил йогические практики не только в восточную церковь, но и в западную, используя орден иезуитов, мрачная история которого не оставляет сомнений в его источниках. “В 1534 году католик Игнатий Лойола основал орден иезуитов (общество Иисуса), где ключевой мистической практикой были ‘восьмидневные духовные упражнения’ — отождествление себя со Христом в последнюю неделю Его жизни. Переживания бывали столь интенсивными и реальными, что на руках, ногах и теле возникали стигматы — кровоточащие раны Иисуса” [Религии мира. Энциклопедия. В 2 томах. Москва: Аванта+, 1996. Том 1. Страница 656]. Скоро эта “йогическая” традиция распространилась не только среди иезуитов, но и других монашеских орденов, а затем стала доступна и мирянам. “Святая Тереза в своём труде ‘Обители души’ (Las Moradas) изложила с удивительной ясностью и образностью все стадии, через которые должна пройти душа, чтобы в экстазе соединиться с Богом… ‘Я знала не одну женщину, причём весьма благочестивую, проведшую семь-восемь часов в состоянии, которое показалось им экстазом; малейшее духовное усилие захватывало их настолько, что они смирялись, уверенные, что нельзя противиться Богу… Из-за этого они становились беспомощными, если их не излечивали’” [Дефурно. Указанное произведение. Страницы 154–155]. Хуан де ла Крус, причисленный к лику святых, отмечал: “Я мог бы долго говорить о женщинах, которые наносили себе ложные стигматы (отпечатки распятия — прим. А. О.) — раны, терновые венцы, изображения Христа на теле, поскольку в наше время это можно наблюдать повсеместно” [Valbuena Prat: La vida espaHola en la Edad de Oro segъn las fuentes literarias (1943), страницы 90 и 102–103]. В этой сфере развернулась настоящая конкуренция, и один из иезуитов писал в 1634 году своему собрату: “Количество людей со стигматами возросло настолько, что уже не считается слугой Божьим тот, кто не покажет все Пять Ран” [Deleito PiHuela, La vida religiosa bajo el cuarto Felipe. Santos y pecadores (1952), страница 204]. Эти мистические практики открыли в христианстве дорогу различным представлениям о странствиях душ, их явлениях родственникам. Они заложили религиозную основу для эзотерики, спиритизма и оккультизма, где медитация доводит человека до состояния, когда он теряет контроль над собой, а его разум становится открытой книгой для дьявольских внушений.
● Дешёвая благодать. Наконец, последний ложный путь к бессмертию, проникший в христианство из языческих источников, опирается на принцип дешёвой благодати. Некоторые языческие культы, особенно в Греции, призывали людей “жить и наслаждаться”, не обременяя себя лишними размышлениями. Признавай богов и радуйся дарованной ими жизни — таков был лозунг культов Деметры, Диониса и других. Эта мысль проникла и в некоторые христианские общины, в основном благодаря харизматическому движению. Согласно этой доктрине, для спасения достаточно признать Христа своим Спасителем — и на этом всё. Соблюдение заповедей, по их мнению, относится к Ветхому Завету, а мы живём под благодатью Нового Завета. Поэтому меньше забот о грехах, больше смеха и веселья. Эта чрезвычайно удобная вера не требует от человека глубоких духовных перемен. Каков же истинный путь к счастью и вечной жизни? Если жертвоприношения, таинства, джихады, медитации, дешёвая благодать, добрые дела, аскетизм, эликсиры бессмертия и научные изыскания не приводят к нему. Как его обрести? Этот ключевой для каждого вопрос мы исследуем, обратившись к библейской Первой книге Царств, где скрыты этапы пути к вечной жизни.