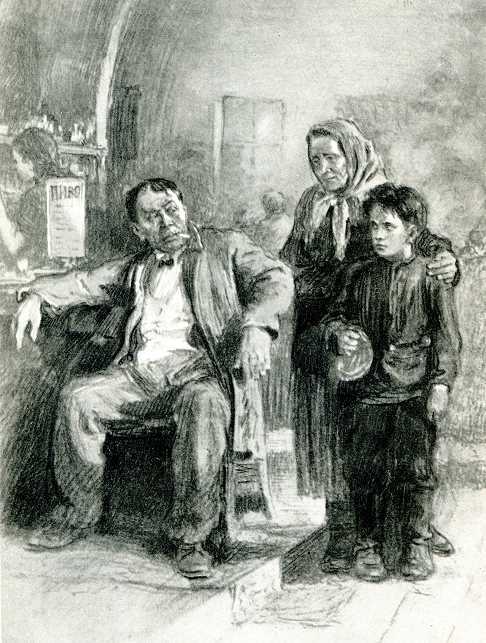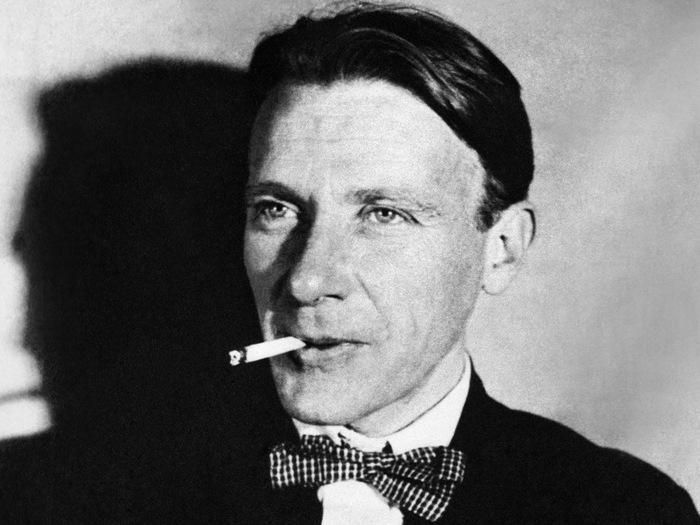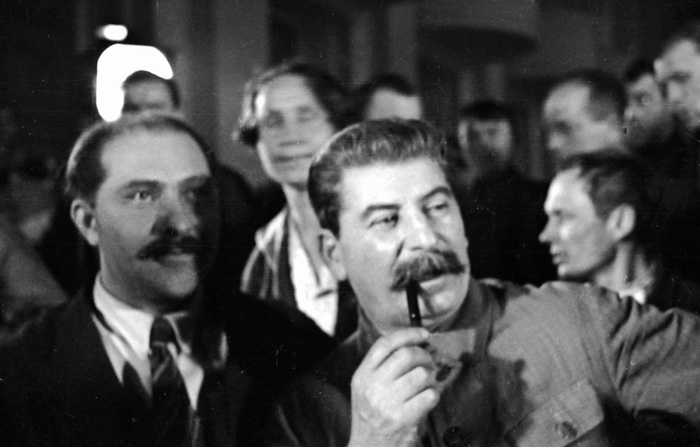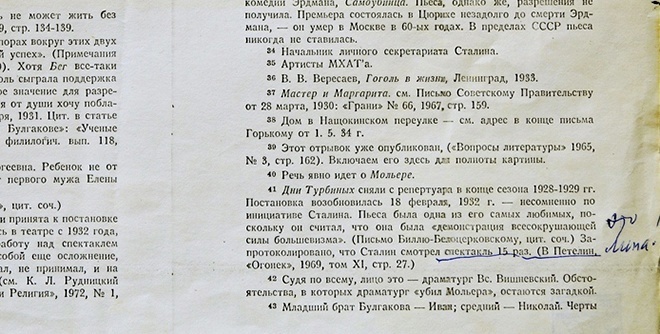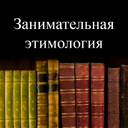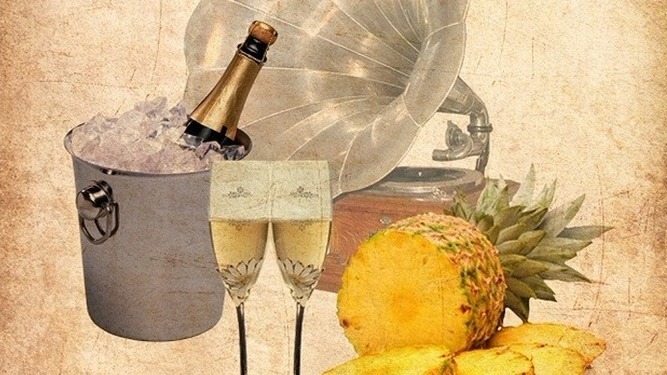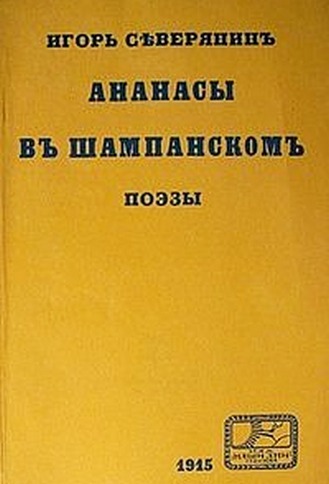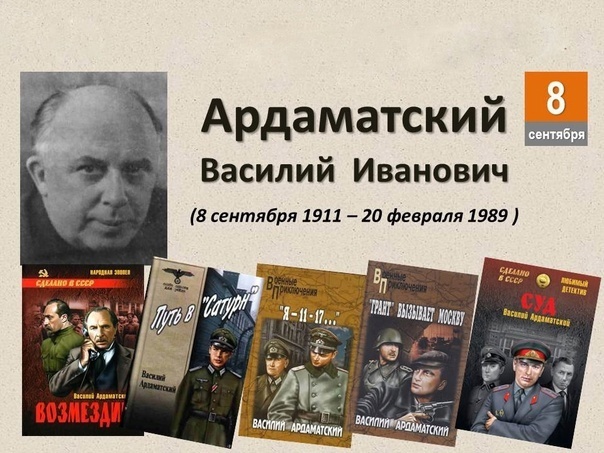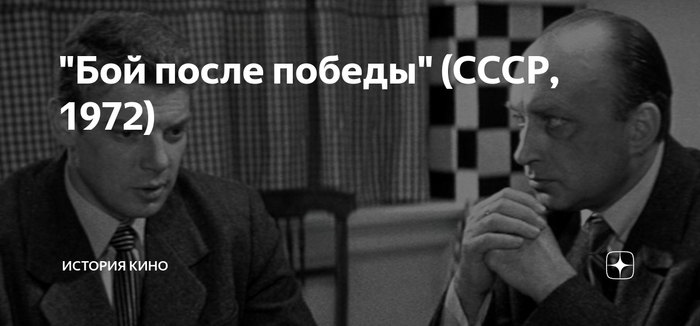"Ясно всем стало: впереди голодная смерть. Собрались они и порешили, что каждый глава семьи вначале убьёт всех своих домочадцев, а потом покончит с собой. На следующее утро все было сделано так, как порешили: на холме лежали мёртвыми, тесно прижавшись один к другому, те, кто вчера еще был живым…"
Жизнерадостна и свободна. Именно так я опишу большую часть книги, цитату из которой вы только что прочитали. Мы с вами отправимся в историю одного из мальчиков народа чукчей, а проведёт нас по тексту романа «Время таяния снегов» Юрий Рытхэу, сын далёкой и холодной Чукотки, который создал прекрасное художественное произведение про собственную жизнь и жизнь своего народа. (Вот тут можно познакомится с текстом этой книги)
Пусть это и художественный текст, но в нём мы проживём жизнь писателя от его рождения в далёкой и неприветливой тундре и до выхода его первой настоящей книги. Эпопея разделена на 3 книги, каждая из которых крайне самобытна. Автор не дал им названия, так что нас ждёт Книга Первая.
Первая часть трилогии посвящена жизни чукотского стойбища Улак, причём в самое сложное время – в момент столкновения советской новации и традиционной архаики. Книга практически не показывает это столкновение как конфликт, скорее, наоборот, вы будете наблюдать за жизнью маленького мальчика, который «напрудил в кроватку» и которого добрый воспитатель, дядя Кмоль, отучивал это делать, отправляя проветривать звериную шкуру, что была у него кроваткой, на утренний ледяной ветер, а если его племянник просыпался после дядюшки – его будили розгами.
В книге крайне красивые, хоть и достаточно суровые описания природы. Над вами будут проползать тяжёлые осенние облака, а море будет дышать, колыхаясь ледяной кашей. Суровый и одушевлённый Север, который видят чукчи, красиво передаёт их речь, порой грубая, порой достаточно непонятная и даже неинтересная – какой, собственно, и должна быть адекватная человеческая речь, не написанная ради восторга читателей. Особую красоту первой части приносят шаманские обряды, жертвоприношения и боги. Местные боги, которые были частью современной жизни людей. Представьте, в 1945 году люди собирались около клуба для того, чтобы послушать сводку с фронта в ожидании победы, а потом обращались к Богу дома. Даже меняя ярангу на полноценный сбитый и крепкий дом, один из наиболее «прогрессивных» местных жителей тайком перенёс в новый дом и замаскировал его за портретом Ленина фигурку местного Бога – почерневшего деревянного белого медведя.
Жизнь главного героя, мальчика Ринтына – основное зеркало проблемы. Он глубоко погружён в шаманизм и традиционные верования народа, но при этом советская школа и новые технологии становятся частью жизни этого человека. Это проблема не одного мальчика, это проблема целых народов. Автор очень хорошо показал целый комплекс проблем. Например, председатель Гэвынто – прогрессивный руководитель, правда, при этом некомпетентный бюрократ и безнравственный пьяница. Его брат, Кмоль, – практически полная противоположность, который был выходцем своего народа, со всеми его недостатками и преимуществами.
У автора получилось избежать романтизации Севера, который был жесток, суров, неприветлив и населён далеко не самыми идеальными людьми. Избежал он и постоянного восхищения прогрессом, темой, характерной для многих советских произведений от представителей малых народов. Конечно, не в полной мере, но, чёрт возьми, как можно не восхищаться кораблю, который привозит вам инструменты, материалы и прочие ценные вещи, которые добыть было сложно, а иногда – невозможно.
Вторая книга заметно отличается, в первую очередь – сюжетом. В первую очередь меняется фокус. Ринтын хочет поступить в университет, и книга описывает его путь. Это уже путь развития советского человека, в нём становится всё меньше и меньше следа представителя своего народа. Эта часть книги – в куда большей степени психологическая драма, нежели приключение на фоне природы. В книге появляется куда больше людей, у которых совершенно разные взгляды на место человека в обществе. Автор показывает этот период «рваными» переходами, этакая дорожная хроника. Вы видите странички из жизни взрослеющего ребёнка, его проблемы, проблемы уже молодого человека, чёртова бюрократия, которая некоторым людям заменила религию…
Вторая книга (вторая часть эпопеи) вызывает у меня сложные ощущения. Она очень интересная динамикой событий, она увлекательна, словно приключенческий роман для подростков в хорошем смысле этого сравнения. Описание аварии лифта в угольной шахте, что оставила посёлок без тепла, и перенос этого угля из самой шахты студентами вызывал у автора этого текста поток достаточно неприятной ностальгии по похожему жизненному эпизоду. Автор книги прекрасно описывает жизненную реальность… реальную.
Однако сам «север» уходит на второй план. Да, тут всё ещё много бытовых народных сцен: потребление нерпичьего мяса, жизнь в яранге, интересные брачные ритуалы и то, как они появились в условиях Севера, но… советский быт и советская «реальность» начинают занимать доминирующее положение в тексте. Само по себе это не плохо, ведь мы читаем историю чукчей 1940-х – 1950-х гг., но этот раздел требует своего читателя. Заканчивается он приездом молодого человека в Ленинград.
Третья книга полностью отказывается от истории выходцев из Чукотки. Это «ода прогрессу». Молодой человек исполнил свою мечту, поступил в университет Ленинграда, начинаются обычные студенческие будни. В них красиво описан взгляд крайне далёкого, немного «дикого» приезжего на прекрасный советский город, прекрасный, но чужой. Главный герой задумывается о том, что нужно написать книгу про свой дом и свою Родину: малую, свободную, суровую.
Одним из самых ярких моментов этой части я бы назвал столкновение религий, несмотря на то, что это лишь небольшой фрагмент одной из глав. Чукча Ринтын в Ленинграде попадает в православную церковь, и происходит столкновение фундаментально противоположных взглядов на религию. Конечно, помня, когда была написана эта книга, элемент атеистической критики в тексте есть, но само сравнение очень интересно. Главный герой одновременно и восхищается масштабом «божества» и не понимает, как оно может существовать, ведь его бог был осязаем и практичен.
Третья книга интересна не меньше, чем первые, но ей нужен свой читатель. Тут нет приключений, практически нет этнографии, минимум даже глубокой философии. Это, скорее, наблюдение современника за событиями, что его окружают. Да, он в них участвует, но мы наблюдаем за жизнью со стороны. Специфическая советская повседневность чукотского студента, в некоторых местах приукрашенная, завлекающая, но читать её легко. Нужно ли?
А вот тут вопрос очень открытый. Собственно, именно с него начался этот текст. «Время таяния снегов» не просто так разбита на три книги. Это и есть три книги, в которых из общего – только главный герой и его путь, да и он сам очень сильно меняется по ходу своего взросления.
«Время таяния снегов» Юрия Рытхэу — это не просто трилогия, а многослойное зеркало, в котором отражается хрупкость человеческой души на фоне ломки эпох. Как весенний лёд, трескающийся под напором тепла, герой и его народ балансируют между миром, где каждый камень одушевлён дыханием предков, и миром, где прогресс диктует новые правила. Ринтын, мальчик из тундры, ставший голосом Чукотки в каменных лабиринтах Ленинграда, — это не просто персонаж, а живая трещина между мирами. Его путь — метафора таяния, где исчезают не только снега, но и границы: между мифом и реальностью, между «мы» и «они», между криком тундры и шёпотом книг.
Первая книга дышит жизнью, даже когда рассказывает о смерти. Суровость Севера здесь — не декорация, а персонаж: шаманы, нерпичий жир, ветра, вырезающие узоры на лицах, — всё это сплетается в притчу о вечном круговороте. Мы, вместе с автором и его героем, идём сквозь боль и жестокость, но ощущаем странную радость — как путник, нашедший огонь в стужу. Это гимн уходящему миру, спетый без надрыва, но с благодарностью.
Вторая часть — история взросления, где герой, словно нартенная собака, рвётся из упряжки традиций. Север отступает, освобождая место людям: их амбициям, страхам, попыткам вписать древние обряды в ритм советского марша. Здесь уже нет идиллии: прогресс обжигает, как спирт на морозе, но Рытхэу не судит. Он показывает, как искренне можно верить в «чудо» тракторов и школ, даже если за него платишь куском души и понимать это.
Третья книга — не финал, а вопль, застывший в вечной мерзлоте. Советская реальность здесь не фон, а ловушка: героя разрывают бюрократия, идеологические клише, тоска по тундре, ставшей мифом даже для него самого. Проза Рытхэу теряет лёгкость, превращаясь в этнографический документ о Советском Союзе с точки зрения чукотского мальчика из 1950-х. Этот документ сухой, честный, без прикрас и осуждений. Это уже не "шаманский бубен", а протокол: как цивилизация дробит идентичность, оставляя человека на грани двух бездн - двух миров, к которым он не принадлежит. Стиль становится тяжёлым, словно снежная насыпь, но, возможно, именно в этом — главная правда.Стоит ли читать трилогию до конца? Да — если вы готовы принять её целиком: не как приключение или учебник истории, а как исповедь. Исповедь народа, заплатившего за прогресс памятью, и человека, который, даже став писателем, остался мальчиком из тундры — с разбитым сердцем и надеждой, что его голос не умрёт в метели времён. Ведь таяние снегов — это не конец. Это начало новой воды.