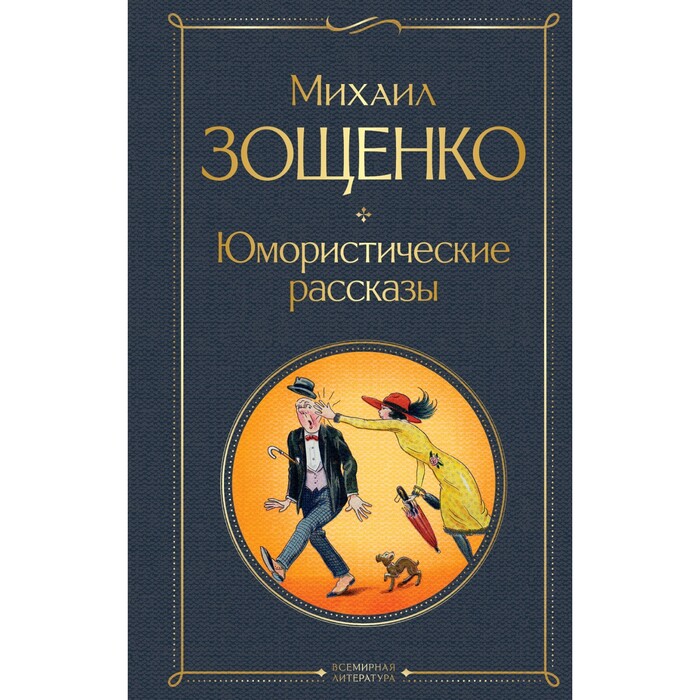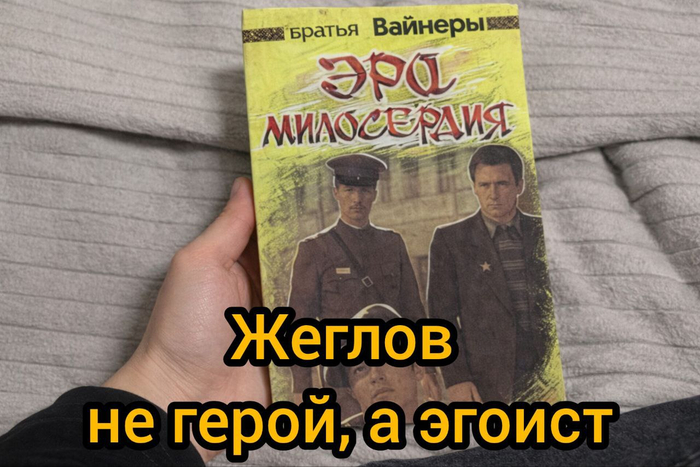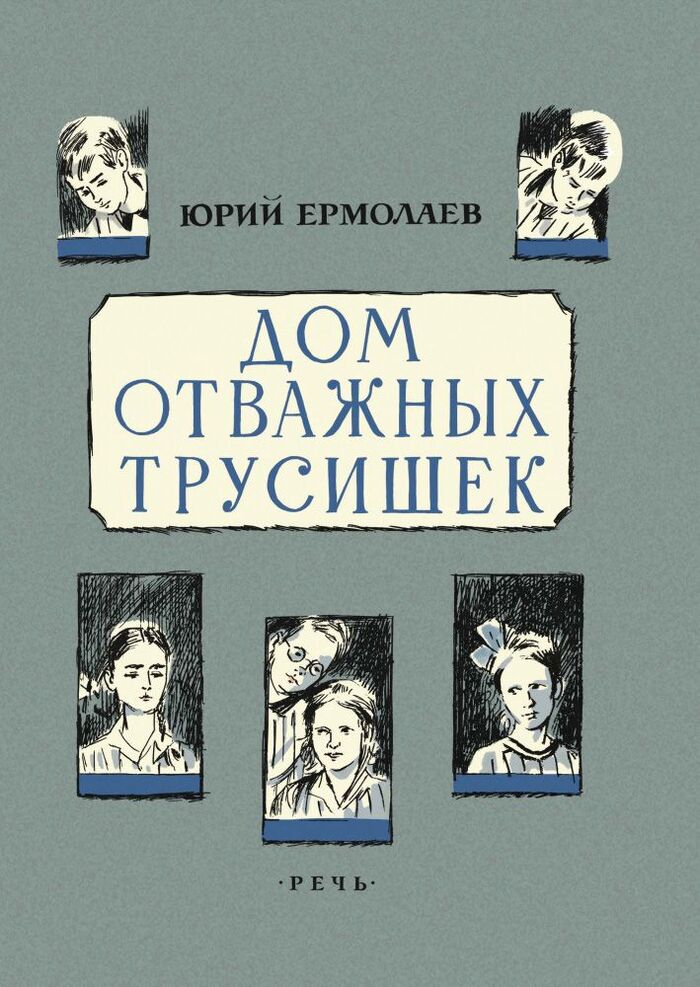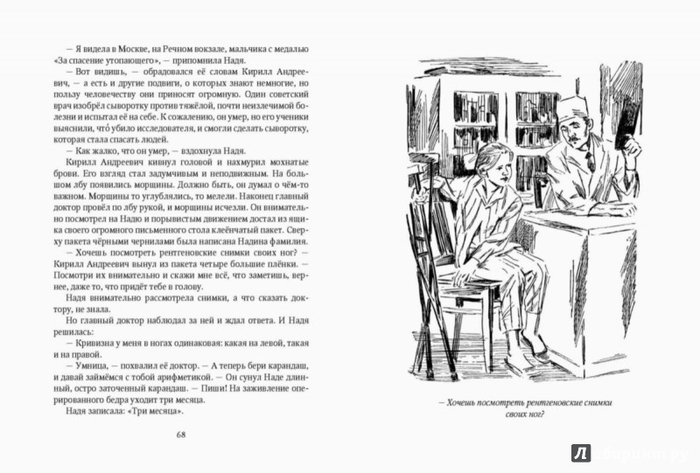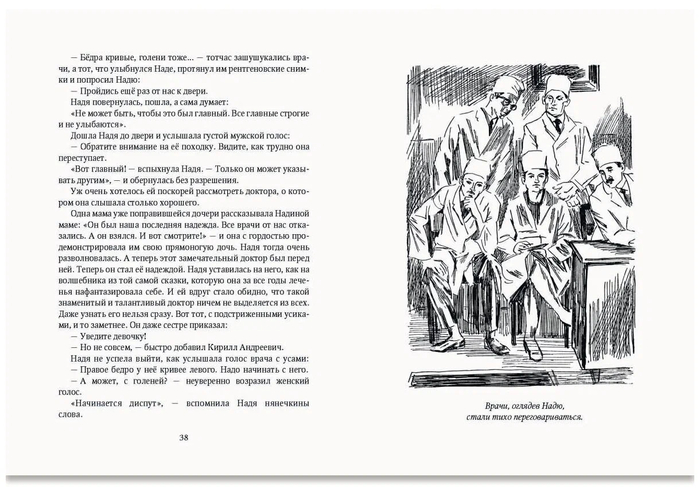Теперь-то ясно.
Нынче, граждане, все ясно и понятно. Скажем, пришла масленица – лопай блины. Хочешь со сметаной, хочешь – с маслом. Никто тебе слова не скажет. Только, главное, на это народных сумм не растрачивай. Ну а в 1919 году иная была картина.
В 1919 году многие граждане как шальные ходили и не знали, какой это праздник – масленица. И можно ли советскому гражданину лопать блины? Или это есть религиозный предрассудок?
Как в других домах – неизвестно, а в нашем доме в 1919 году граждане сомневались насчет блинов.
Главное, что управдом у нас был очень отчаянный. А с тех пор как он самогонщицу в № 7 накрыл, так жильцы до того его стали бояться – ужас.
И помню, наступила масленица.
Сегодня, например, она наступила, а вчера я прихожу со службы. И кушаю что было. А жена вытирала посуду полотенцем и говорит сухо:
– Завтра, – говорит, – масленица. Не испечь ли, – говорит, – блинков, раз это масленица?
– Погоди, – говорю, – Марья, не торопись, не суйся, говорю, прежде батьки в петлю. Праздник, – говорю, – масленица невыясненный. Это, – говорю, – не 1925 год, когда все ясно. Погоди, – говорю, – сейчас сбегаю во двор, узнаю как и чего. И если, – говорю, – управдом печет, то, – говорю, – и нам можно.
И выбежал я во двор. И вижу: во дворе жильцы колбасятся. В страшной такой тоске по двору мечутся. И между собой про что-то шушукаются.
– Не насчет ли масленицы колбаситесь, братцы?
– Да, – отвечают, – смотрим, не печет ли управдом. И ежели печет, из кухни чад, то вроде это декрета – можно, значит.
Вызвался я добровольно заглянуть в кухню. Заглянул вроде как за ключом от проходного. Ни черта в кухне. И горшка даже нет. Прибегаю во двор.
– Нету, – говорю, – граждане, чисто. Никого и ничего, и опары не предвидится.
А тут, помню, бежит по двору управдомовский мальчишечка семи лет – Колька. Поманил я его пальцем и спрашиваю тихо:
– Ребятишка, – говорю, – будь, – говорю, – другом. Есть ли, скажи, опара у вас или не предвидится?
А мальчишечка, дитя природы, показал шиш из пальчиков и ходу. Отвечаю жильцам:
– Расходитесь, – говорю, – граждане, по своим домам. Масленица, – говорю, – отменяется.
А тут какой-то гражданин с восьмого номера надел пенсне на нос и заявляет:
– И это, – говорит, – свобода совести и печати?!
– Ваше, – говорю, – дело десятое. У вас, – говорю, – интеллигентный гражданин, и муки-то нету. А вы, – говорю, – вперед лезете и задаетесь.
– Я, – говорит, – не из муки, я, говорит, из принципа.
– Мне это не касаемо. Встаньте, – говорю, – назад. Дайте, – говорю, – женщинам видеть.
Ну, разгорелся классовый спор. А баба в споре завсегда визжит. И тут какая-то гражданка завизжала. А на визг управдом является.
– Что, – говорит, – за шум, а драки нету?
Тут я вроде делегатом от масс выхожу вперед и объясняю недоразумение граждан и насчет опары.
А управдом усмехнулся в душе и говорит:
– Можно, – говорит, – пеките. Только, – говорит, – дрова в кухне не колите. А что, говорит, касаемо меня, то у меня муки нету, оттого и не пеку.
Похлопали жильцы в ладоши и разошлись печь.
Прошло шесть лет. А многие граждане и посейчас в тоске колбасятся и не знают, можно ли советскому гражданину блины кушать или это есть религиозный предрассудок.
Не далее как вчера пришла ко мне в комнату хозяйка и говорит:
– Уж, – говорит, – и не знаю… Ванюшка-то, – говорит, – мой – ответственный пионер. Не обиделся бы на блины. Можно ли, – говорит, – ему их кушать? А? Вспомнил я нашего управдома и отвечаю: – Можно, – говорю, – гражданка. Кушайте. Только, – говорю, – дрова в кухне не колите и народные суммы на это не растрачивайте.
Так-то, граждане. Лопайте со сметаной.