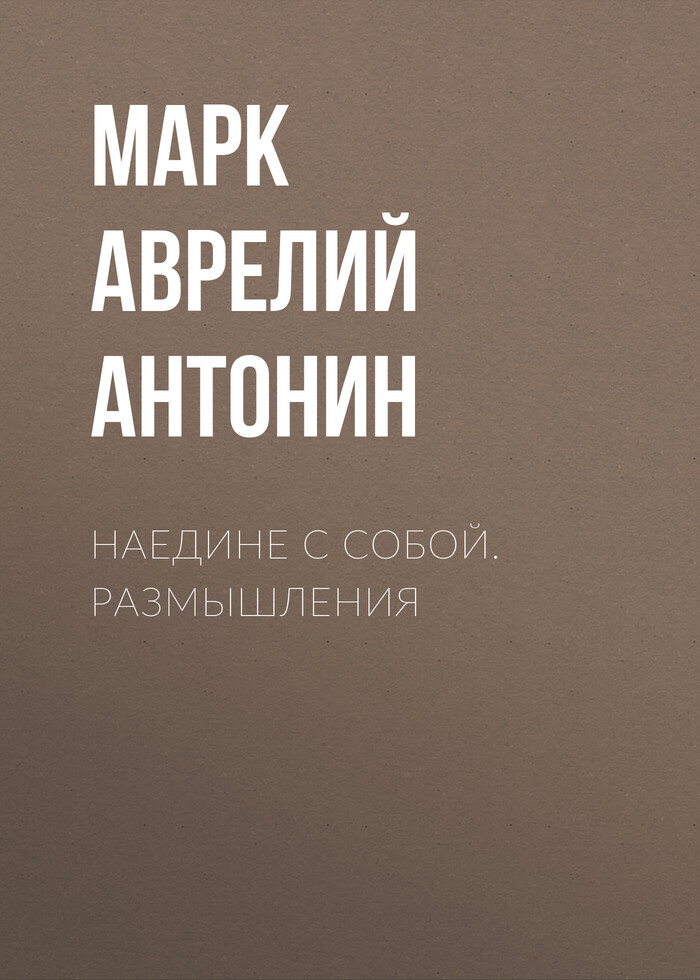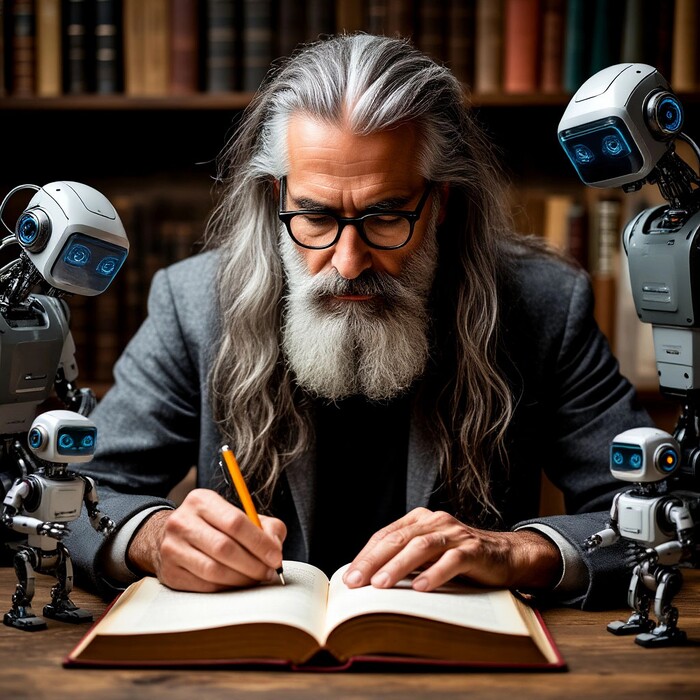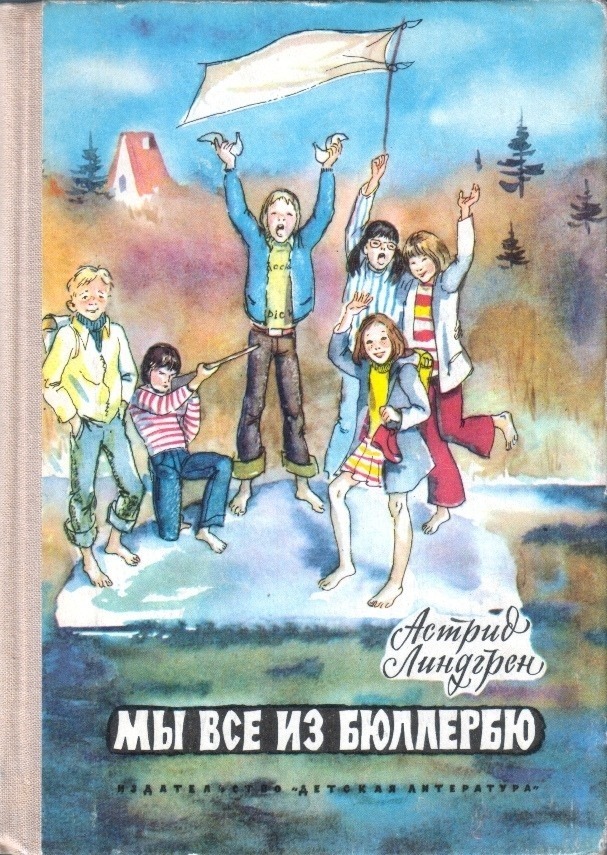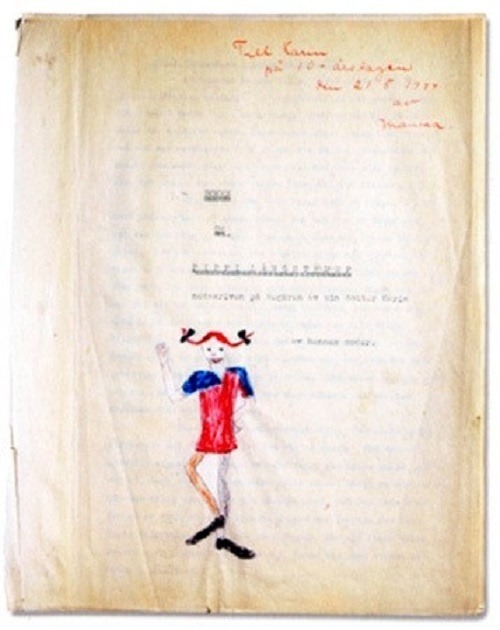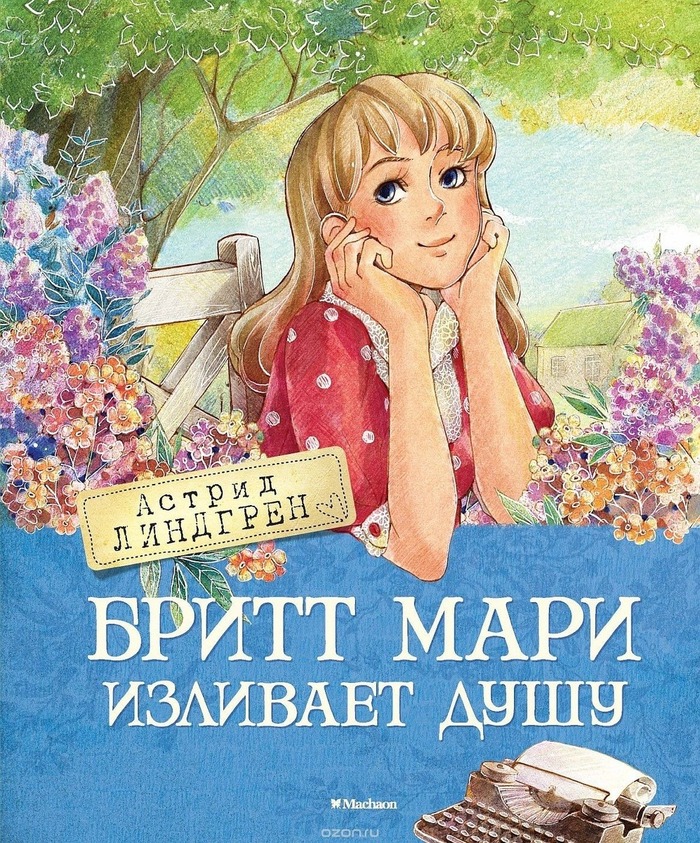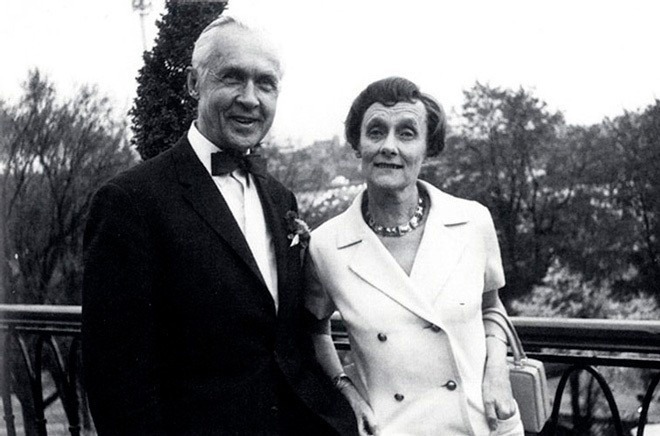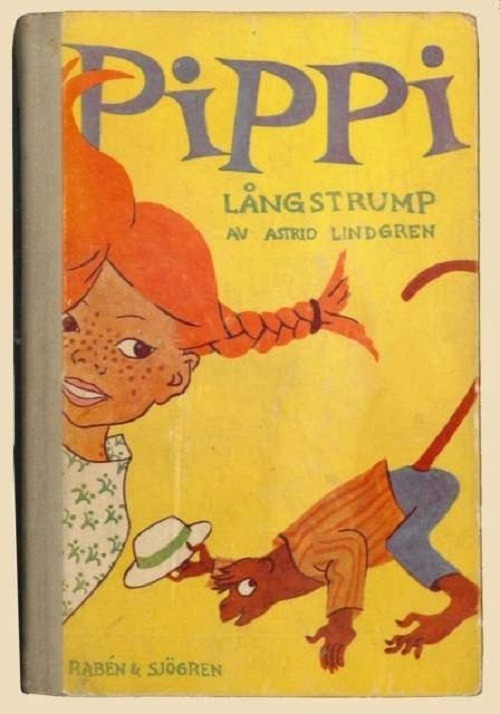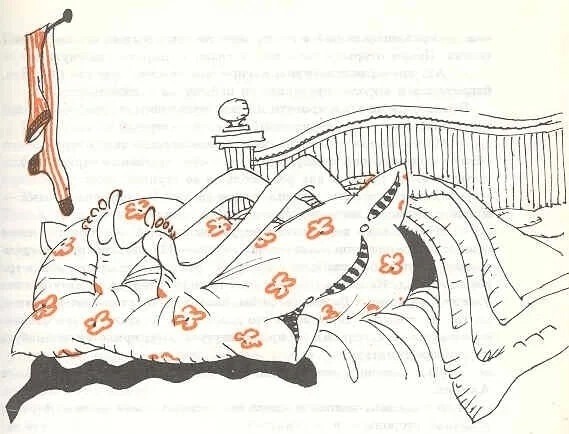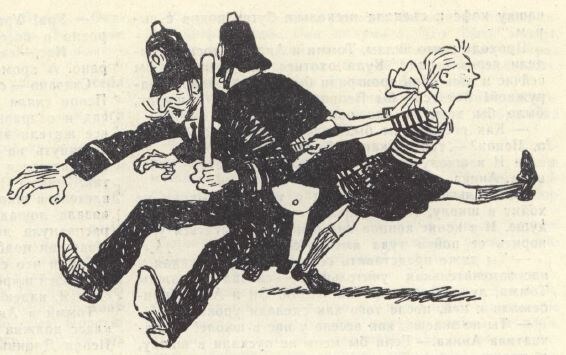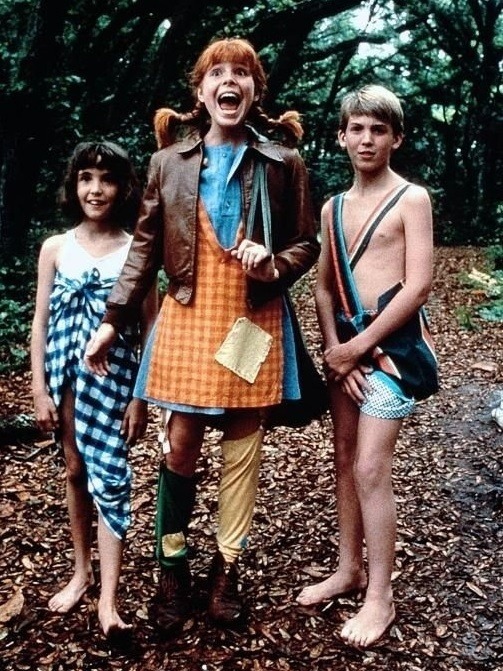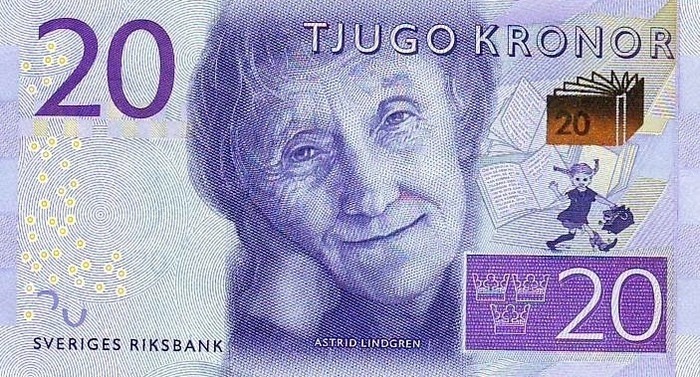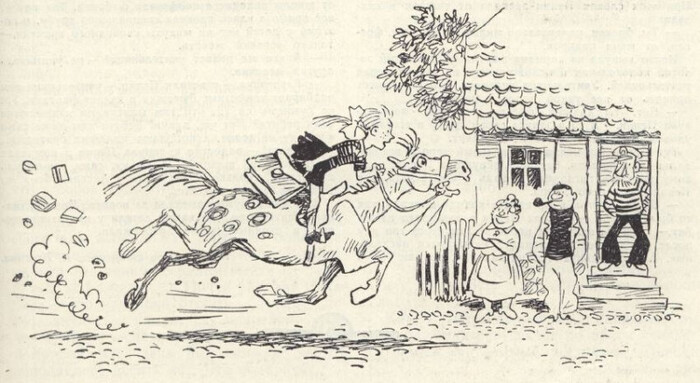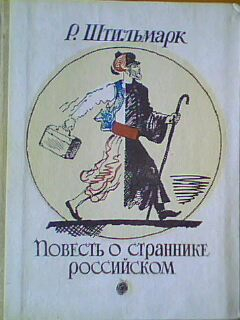Напротив, на краю сухой пропасти, где раньше была его лужа, Павлин балансировал, перебрасывая из руки в руку тот самый серебряный медальон с треснувшей десятиконечной звездой. Его отражение в потускневшем металле дробилось и искажалось, кажется, прямо у него на ладони.
Неловкое молчание затягивалось, становясь тяжелее свинцовых труб над их головами. Наконец, Павлин резко сжал медальон в кулаке, замяв его нервное движение. Магия мыслей, что была в нём, уже выветрилась.
— Ну что, молния, какой план? — его голос прозвучал нарочито бодро, фальшиво. — Зеркало спрятано, культисты довольны нами… Теперь будем учить Языкову распевать гимны Десятому вместо од Агоре?
Виктор даже не поднял головы от схем, лишь его пальцы замерли на странице.
— Ты дрожишь, — тихо, но чётко заметил он. — И брось вертеть эту штуку. Она уже протёрла дыру в твоём кармане.
Пауза повисла снова, наливаясь гулким напряжением. Павлин стиснул медальон так, что его костяшки побелели. Словно этого маленького кусочка металла он держался за последнюю опору.
Виктор медленно, почти нехотя, закрыл свой кожаный блокнот и убрал его во внутренний карман. Его взгляд, наконец, поднялся и встретился со взглядом друга.
— Ты согласился на этот ритуал не просто так. И не ради абстрактной «силы», чтобы уехать куда глаза глядят. Зачем тебе Мидир, Пав? По-настоящему?
Прорыв был мгновенным и яростным. Павлин резко обернулся, и в его глазах вспыхнула такая отчаянная злость, что Виктор едва заметно отклонился назад. Но уже в следующее мгновение Павлин погасил её кривой, натянутой ухмылкой.
— Ого! Великий Виктор Таранис наконец-то снизошёл до чужих тайн! — он язвительно рассмеялся. — Может, я хочу стать главным водопроводчиком Агоры? Или…
— Перестань, — резко оборвал его Виктор, поднимаясь с места. Лунный свет бликнул в его самовосстанавливающихся очках, скрывая выражение глаз. — Мы только что отдали буквы своих имён какому-то «Десятому». Я видел тень-отражение твоего...
— Мой отец ушёл в Апиро-Киперу! — выпалил Павлин, резко перебивая. — Даже не зная, что мать беременна мной.
Слова повисли в воздухе, став вдруг осязаемыми и тяжелыми. Тишину нарушила очередная капля, упавшая в ведро. Её звук прозвучал в наступившей тишине оглушительно громко, будто выстрел.
Исповедь лилась теперь сама собой, под аккомпанемент капели и далёкого завывания ветра в трубах.
— Мать говорит, он был легионером-идеалистом, — Павлин уже не смотрел на Виктора, а разглядывал медальон, вертя его на цепочке. — Мечтал «освободить магию» от контроля Тройса. Когда Агора объявила охоту на таких еретиков, он просто сбежал. Туда. В Апиро-Киперу.
Он внезапно швырнул медальон Виктору. Тот поймал его на лету. На обратной, до этого скрытой стороне, была выгравирована крошечная, едва заметная надпись: «Для того, кто найдёт путь».
— И ты веришь, что он всё ещё жив? — тихо спросил Виктор, проводя подушечкой пальца по гравировке.
Павлин горько усмехнулся.
— Нет. Но если Апиро-Кипера — это место, где магия свободна… Может, там остались его следы. Или хотя бы причины, ради которых он нас бросил.
Он нервно провёл рукой по заржавевшей стене, и влага из воздуха тут же сконденсировалась, обрастая причудливыми, хрупкими ледяными узорами.
Виктор медленно приблизился к нему, стирая расстояние, которое их внезапно разделило.
— Почему ты молчал всё это время?
— Боялся, что решишь, будто я тащу тебя в эту авантюру ради призрака, — Павлин всё ещё избегал его взгляда. — Ты же всё просчитываешь, всё взвешиваешь. А это… это не просчитывается.
Виктор внезапно, почти резко, схватил его за плечо.
— Мы уже в авантюре, Пав. Глубже, чем самые нижние тоннели под Нищуром.
Павлин замер и наконец посмотрел на него. Он заметил, что рука Виктора, лежащая на его плече, мелко дрожит. Не от страха — от сдерживаемой, неподдельной ярости за друга.
— Мидир даст нам доступ к закрытым архивам, — тише, но твёрже сказал Виктор. — Узнаем всё, что можно, об этой Апиро-Кипере. А если нет…
Он усмехнулся, и в этой усмешке вдруг проглянул тот самый мальчик, способный на чёрную молнию.
— Я взломаю карты ДАРИТЕЛЯ. Найду её через дыры в их собственной системе.
Павлин фыркнул, и это неожиданно переросло в сдавленный, но самый искренний смех за весь вечер.
— Гений-анархист. Мама точно будет в восторге от такого друга семьи.
Они оперлись на ржавые, некогда мощные перила насосной станции и смотрели, как одинокий луч луны пробивается сквозь дыру в куполе, освещая клубящуюся в воздухе пыль. Где-то вдали, в тоннелях, завывал ветер, будто вторя их бурлящим мыслям.
— Спасибо, — вдруг, совсем серьёзно, сказал Павлин, глядя в темноту. — За то, что не сказал «эгоист» или «дурак».
Виктор поправил очки на переносице, и стёкла снова на мгновение отразили лунный серп.
— Мы оба дураки, — констатировал он. — Прямо в яблочко. Как и наши отцы, выходит. А ещё мы снова не дома в такую ночь, влетит нам от родителей.
Он наклонился, подобрал с пола небольшой болт и метким движением швырнул его в темноту, в сторону старого насоса. Раздался короткий, высокий звон — будто ответный сигнал, обещание, данное ржавым металлом и тишиной заброшенной станции.
Луна, бледная и равнодушная, пряталась за рваными облаками, бросая на землю ускользающие пятна света. Воздух в переулке, находившемся чуть поодаль от станции, был густым и спёртым, словно вдохнул всю пыль веков и выдохнуть уже не мог. Тишина стояла абсолютная, звенящая, нарушаемая лишь скрипом их собственных шагов по старому асфальту и далёким эхом капели со станции.
Виктор шёл первым, его пальцы бессознательно сжимали и разжимали рукоять «Бо», спрятанного в складках плаща. В ушах ещё стояли слова Павлина, обжигающие, как та самая чёрная молния. Отец. Апиро-Кипера. Бросил. Мысли путались, пытаясь совместить образ самозванца Нэуна с личной трагедией друга. Он чувствовал себя так, будто разобрал сложнейший механизм, а собрать обратно уже не мог — детали не сходились, оставались лишние винты правды и боли.
Павлин шёл чуть позади, сгорбившись, руки засунуты в карманы. Он сжимал в кулаке серебряный кастет, и холод металла был единственным, что хоть как-то поддерживало его, не давало слететь с катушек. Он чувствовал себя обнажённым, будто с него содрали кожу, а все прохожие — а их не было — видят его настоящее, незащищённое нутро.
Именно в эту хрупкую, звенящую тишину шагнул он.
Он вышел из тени высокого кирпичного здания, возникнув словно из ниоткуда. Лунный свет упал на него, и Виктор сначала не поверил своим глазам. Евгений. Но это был не тот Евгений, что красовался перед толпой у фонтана. Не тот, что сыпал колкостями на уроках. Его осанка, всегда идеально прямая, была сейчас сломанной, плечи напряжены. На нём не было его всегдашней ухмылки, взгляд был тёмным, серьёзным, почти лихорадочным. Он стоял, перекрывая узкий проход переулка, и в его позе читалась не надменность, а какая-то ледяная решимость.
— Таранис. Неро, — его голос прозвучал непривычно тихо, без привычного бархатного презрения. Он был сдавленным, почти шёпотом, но в тишине переулка он прозвучал громче крика.
Виктор и Павлин замерли. Инстинктивно они встали плечом к плечу, как делали это в тоннелях.
— Динами, — холодно отозвался Виктор. — Ты потерялся? Твои лакеи где-то задержались.
Евгений проигнорировал колкость. Его взгляд скользил по ним, изучающе, почти голодно.
— Я видел вас. Сегодня. На глубине, — он сделал шаг вперёд. Лунный свет блеснул на изящном золотом портсигаре, который он нервно перебирал в руке. — Вы шли с людьми в балахонах. Куда? Что вы там нашли?
Сердце Виктора ёкнуло. Его видели. С культистами. Но лицо его осталось каменным. Павлин же, наоборот, съёжился, его пальцы в кармане сжали кастет так, что металл впился в кожу.
— Не твоё дело, — сквозь зубы процедил Павлин. Его голос дрожал от ярости, а не от страха. — А ты что здесь делаешь, аристократ? Ночью, в грязном переулке? Ищешь, кому бы сапоги почистить?
Обычно такая дерзость вызвала бы взрыв ярости. Но Евгений лишь судорожно щёлкнул портсигаром.
— Это не ваше дело, — парировал он, и в его голосе послышались знакомые стальные нотки. — Я задал вопрос. И я привык получать ответы.
— Ответ — «пошёл к чёрту», — резко сказал Виктор, делая шаг вперёд. Его «Бо» был ещё скрыт, но поза говорила сама за себя. — Проваливай.
Евгений замер. На его лице промелькнула борьба — странная, не свойственная ему неуверенность, а затем она сменилась холодной, отточенной яростью. Он резко, почти отчаянно щёлкнул «Вулканом».
— Значит, так, — он выдохнул, и его голос вновь приобрёл привычное, ядовитое благородство, но теперь в нём слышалось что-то надтреснутое, нездоровое. — Я выбью ответ. Силой.
Портсигар раскрылся. Левый отсек. Нажатие на обсидиан.
Евгений совершил изящное, почти небрежное движение запястьем, будто стряхивая невидимую пыль с манжеты. Но из портсигара вырвалось облако мельчайшей, чернее ночи пыли. Она не рассеялась, а сгустилась перед его рукой, приняв за долю секунды форму длинного, отточенного стилета из чёрного стекла. Обсидиановый Стилет. Воздух вокруг лезвия затрепетал от сконцентрированной магии земли.
Виктор не ждал атаки. Он рванулся вперёд, одним плавным движением выхватывая «Бо» из-за спины. Серебряные набалдашники шеста мерцали в лунном свете, как глаза ночного хищника.
Евгений контратаковал с изяществом фехтовальщика. Его укол стилетом был быстр и смертоносен, направлен в горло Виктору. Но Виктор был уже не тем неуклюжим новичком. Месяцы тренировок у Камико взыграли в мышцах. Он не стал блокировать стилет — обсидиан мог перепилить шест. Вместо этого он сделал короткое, резкое движение «Бо» вниз, отклоняя руку Евгения в сторону. Стилет со скрежетом пронзил воздух в сантиметре от его шеи.
В тот же миг Евгений совершил второе движение. Его свободная рука провела по только что созданному стилету, и с него осыпалась часть пыли. Но пыль эта не упала на землю. Она ринулась вниз, к асфальту у ног Виктора.
— Земля! — успел крикнуть Виктор, отпрыгивая назад.
Из под его ног, с сухим, раскалывающим треском, вырвался острый шип обсидиана, готовый пронзить ступню. Он едва увернулся.
Павлин, тем временем, использовал эту секунду. Без магии он был быстр и ловок. Он рванулся вбок, пытаясь зайти Евгению с фланга. Его правая рука была уже вынута из кармана, и на неё был надет серебряный кастет — грубый, неотёсанный, но смертельно опасный в ближнем бою.
Евгений, не теряя концентрации, встряхнул «Вулканом». Из портсигара высыпался серый пепел, который мгновенно сформировался вокруг него в полупрозрачный, мерцающий плащ-доспех.
Павлин нанёс удар — короткий, резкий апперкот снизу, целью которого была челюсть. Но кастет с глухим стуком встретил не плоть, а упругую, рассыпчатую преграду. Плащ поглотил большую часть силы удара, вздыбившись облаком пепла. Евгений лишь чуть отклонил голову.
— Жалко, — прошипел он, и в его глазах вспыхнул знакомый огонь высокомерия. — Без своей водички ты никто, Неро.
Он схватил край своего пепельного плаща, и в его руке пепел сплавился, образовав короткий, но острый обсидиановый кинжал. Он тут же нанёс им режущий удар по руке Павлина.
Павлин отпрыгнул, но лезвие оставило тонкую красную полосу на его ладони. Боль, острая и жгучая, всколыхнула в нём ту самую ярость, что клокотала внутри с насосной станции.
— Я тебе покажу, кто тут никто! — зарычал он, сжимая кастет.
Тем временем Виктор перешёл в наступление. Его «Бо» засвистел в воздухе, описывая сложные траектории. Он атаковал не Евгения, а его плащ, нанося быстрые, хлёсткие удары по краям доспеха. С каждым ударом серебро шеста встречалось с магическим пеплом, и тот рассеивался, становился тоньше. Виктор рассчитывал силы — он не пытался пробить плащ одним ударом, он истощал его, как сапёр обезвреживает мину мелкими точными движениями.
Евгений, атакованный с двух сторон, отступил на шаг. Его лицо исказила гримаса раздражения. Он щёлкнул «Вулканом» снова — на этот раз правый отсек. Рубин.
Он сжал кулак, и вокруг него вспыхнуло пламя. Но это было не дикое, неконтролируемое пламя костра. Оно было сконцентрированным, густым, почти жидким, как расплавленный металл. Оно обвило его кулак, сформировав «Лавовый Кастет». Жара от него была такой, что воздух заколебался, и запахло палёным.
— Хватит играть, — провозгласил Евгений, и его голос вновь приобрёл пафосный оттенок, но теперь в нём слышалась неподдельная злоба.
Он ринулся на Виктора, игнорируя на время Павлина. Его удар был страшен — он бил не кулаком, а сконцентрированным сгустком огня и магмы. Виктор успел подставить «Бо» поперёк, приняв удар на середину шеста.
Раздался оглушительный хлопок, больше похожий на взрыв, чем на удар. «Бо» прогнулся под страшной силой, но выдержал — серебряные вставки не подвели. Однако волна жара и силы отбросила Виктора на несколько шагов назад. Руки онемели до локтей. От взрыва по переулку поползла едкая гарь.
— Виктор! — крикнул Павлин.
Евгений, воспользовавшись моментом, совершил изящный пируэт. Его плащ взметнулся, высыпав облако пепла прямо в лицо Павлину.
Павлин задохнулся, ослеплённый едкой, мелкой пылью. Он отчаянно заморгал, отплевываясь, пытаясь очистить глаза.
— Слепота — удел скота, — с наслаждением произнёс Евгений, уже формируя в другой руке новый обсидиановый стилет. Он направил его на потерявшего ориентацию Павлина. — Теперь, водник, ты заговоришь…
Удар пришёл оттуда, откуда Евгений не ждал.
Виктор, превозмогая онемение в руках, не стал атаковать в лоб. Он резко опустил «Бо» на землю, уперев его, как шест, и использовал его как опору для молниеносного бокового удара ногой. Его ботинок со всей силы пришёлся по руке Евгения, держащей стилет.
Раздался звонкий хруст — не кости, а магического стекла. Обсидиановый стилет разлетелся на тысячи осколков. Евгений вскрикнул от боли и ярости — удар пришёлся по запястью.
— Ты!.. — он зарычал, отскакивая и тряся онемевшей рукой.
Павлин, тем временем, протёр глаза. Они были красными, слезились, но он снова видел. И в его взгляде горела уже не просто ярость. Горела та самая горечь, что копилась годами. Горечь на отца, который сбежал. Горечь на мать, которая любила закон больше него. Горечь от того, что его друг сейчас страдает из-за его же тайны. Эта горечь была сильнее любой магии воды. Она была топливом.
— МОЁ ИМЯ ПАВЛИН! — закричал он не своим, сорванным голосом и ринулся вперёд.
Евгений, оглушённый неожиданной атакой Виктора и этим животным криком, на мгновение опешил. Он попытался поднять руку с «Лавовым Кастетом», но...
Павлин был быстрее. Он не стал бить в корпус, защищённый ослабевшим, но всё ещё действующим «Пепловым Плащом». Он сделал обманное движение плечом, заставив Евгения дёрнуться в сторону, а затем нанёс короткий, хлёсткий удар кастетом по золотому портсигару в его руке.
Удар пришёлся точно. Искры посыпались из «Карманного Вулкана». Механизм внутри жалобно щёлкнул и заскрежетал. Кастет на руке Евгения померк, пламя погасло, обнажив обычный, теперь уже покорёженный кулак. «Пепловой Плащ» дрогнул и рассыпался в обычную, безжизненную серую пыль, оседая на плечах и на землю.
Евгений замер в шоке, смотря на свой повреждённый, дымящийся портсигар. Его лицо выражало не боль, а нечто большее — ужас, унижение, крах его самого дорогого атрибута силы.
Ярость Павлина не утихла. Вращаясь на пятке, он вложил в следующий удар всю свою боль, всё отчаяние, всю накопившуюся за годы злость. Апперкот серебряным кастетом пришёлся Евгению точно в солнечное сплетение.
Воздух вышел из лёгких Евгения со свистом. Его глаза полезли на лоб от неожиданности и боли. Все его аристократические манеры, всё фехтовальное искусство оказались бесполезны против грубой, животной силы отчаяния. Он сложился пополам и рухнул на колени, давясь и пытаясь вдохнуть.
Он стоял на коленях, согнувшись, трясясь. Из его рта капала слюна. Он пытался что-то сказать, но издавал лишь хриплые, сиплые звуки. Его «Карманный Вулкан» лежал рядом на асфальте, бесформенный и мёртвый.
Павлин стоял над ним, тяжело дыша. Его кулак в кастете был сжат так, что, казалось, кости вот-вот треснут. В его глазах всё ещё бушевала буря.
Виктор подошёл, поставив «Бо» на землю. Он смотрел на поверженного Евгения без злорадства. Смотря на его сломанную игрушку и унижение, он чувствовал не триумф, а странную, леденящую пустоту.
Евгений наконец смог поднять голову. Его взгляд, полный ненависти, боли и чего-то ещё, чего Виктор не мог понять — может, страха? — перебегал с одного на другого.
— Вы… вы ничего не понимаете… — прохрипел он, и в его голосе снова послышались те же странные, лихорадочные нотки, что и в начале. — Они… они везде… Вы играете с огнём…
— Мы уже горим, — тихо, но чётко сказал Виктор. — А ты просто подошёл слишком близко к пламени.
Павлин ещё секунду постоял над дрожащим Евгением, словно ожидая, что тот поднимется. Но тот лишь безвольно опустил голову, продолжая хрипло дышать.
Павлин разжал кулак. На его пальцах, там, где был кастет, остались красные следы. Он повернулся и молча пошёл за Виктором, не оглядываясь.
Они шли по переулку, оставляя за спиной тёмную, согбенную фигуру на холодном асфальте. Луна снова вышла из-за облаков, освещая их путь. Они не говорили ни слова. Не было нужды. Только что закончившаяся битва была громче любых слов. Она была ответом на все вопросы…
Дверь скрипнула тише обычного, но в гробовой тишине ночной квартиры звук показался Виктору оглушительным. Он замер на пороге, прислушиваясь. Из-под двери в родительскую спальню не пробивался свет. Выдох с облегчением застрял в горле, когда плечо напомнило о себе тупой, раскалённой болью.
Он сделал шаг в темноту, но тут же застыл. В гостиной, в кресле у холодного окна, сидел его отец. Свет луны, пробивавшийся сквозь пыльное стекло, выхватывал из мрака лишь его осунувшийся силуэт.
Сердце Виктора упало. Значит, всё серьезно. Отец никогда не дожидался его так поздно, предпочитая делать вид, что спит.
— Опять? — тихо спросил отец. В его голосе не было злости. Была усталость. Такая глубокая, что она, казалось, впиталась в самую ткань тишины вокруг.
Виктор не нашёлся что ответить. Он попытался неслышно снять куртку, но левая рука отозвалась пронзительной болью, и он невольно ахнул, роняя одежду на пол.
Отец резко поднялся. Мгновение — и щёлкнул выключатель. Свет кристаллов врезался в глаза. Отец подошёл ближе, его взгляд скользнул по бледному лицу сына, по неестественно скрюченной позе, по тёмному, влажному пятну, проступившему на рубашке у плеча.
— Виктор? — его голос дрогнул, и маска спокойствия осыпалась, обнажив голый, животный страх. Он резко шагнул вперёд, схватил сына за здоровое плечо и развернул к свету. — Что с тобой? Кто это сделал?
— Ничего страшного, — пробормотал Виктор, отводя глаза. — Просто… задержались. Нас… нас подкараулил Евгений.
Отец не отпускал его. Пальцы впились в плечо почти так же больно, как и рана.
— «Задержались»? Виктор, смотри на меня! Это не царапина. Это магия? Он что, стрелял в тебя камнями? Огнём?
— Нет, это… его портсигар. «Карманный вулкан», — Виктор выдохнул, понимая, что врать бесполезно. — Павлин его сломал. Всё уже кончилось.
— Кончилось? — отец фыркнул, и в его глазах вспыхнули осколки былого гнева. — Ничего не кончилось! Это только начинается! Ты думаешь, сломав игрушку богатому мальчишке, ты всё выиграл? Нет! Ты только заставил его захотеть настоящей мести!
Он потянул Виктора за собой в ванную, рывком распахнул аптечку. Действовал резко, почти грубо, но его пальцы, ощупывавшие рану, были поразительно точными и аккуратными. Он промыл ожог, нанёс мазь с резким запахом ментола и мяты. Виктор стиснул зубы, чтобы не кричать.
— Я тебе рассказывал про дядю Германа, — вдруг тихо сказал отец, не поднимая глаз от работы. — Как он лез напролом. Как он был уверен, что его сила и принципы всё превозмогут. И где он теперь?
— Он перешёл дорогу не тем людям в Мидире, — монотонно повторил Виктор заученную формулу.
— Он перешёл дорогу вот таким вот Евгениям, — поправил его отец. Его голос снова стал глухим и усталым. — Только у тех Евгениев были не игрушечные портсигары, а настоящая власть. И они даже пальцем не пошевельнули, чтобы его убрать. Просто перестали замечать. И он исчез. Словно его и не было.
Он зафиксировал повязку и, наконец, посмотрел на сына. Гнев потух, оставив после себя лишь пепел безысходности.
— Я не могу потерять и тебя, Виктор. Понимаешь? Я не переживу этого.
Виктор молчал. Он видел отца — настоящего, сломленного страхом, а не того, что всегда старался казаться весёлым и неунывающим. И этот страх был страшнее любой угрозы Евгения.
— Я всё понимаю, — наконец выдохнул он. — Прости. Я не хотел тебя пугать.
Отец тяжело вздохнул, положил руку ему на затылок и притянул к себе, избегая задеть больное плечо. Это был короткий, неуклюжий объятие.
— Ладно. Иди спать. И… будь осторожнее. Ради меня.
Виктор кивнул и вышел из ванной. Он шёл по коридору и чувствовал на себе взгляд отца — тяжёлый, полный немого вопроса, на который у него не было ответа. Он понимал только одно: тоннели, культисты, зеркало правды и истинная причина его поисков — всё это должно оставаться за дверью их квартиры. Это была стена, которую он построил, чтобы защитить отца. И теперь он видел, какую цену платит тот, кто остаётся по другую сторону этой стены — в неведении, в тихом ужасе за того, кого любит.
Хотите поддержать автора? Поставьте лайк книге на АТ