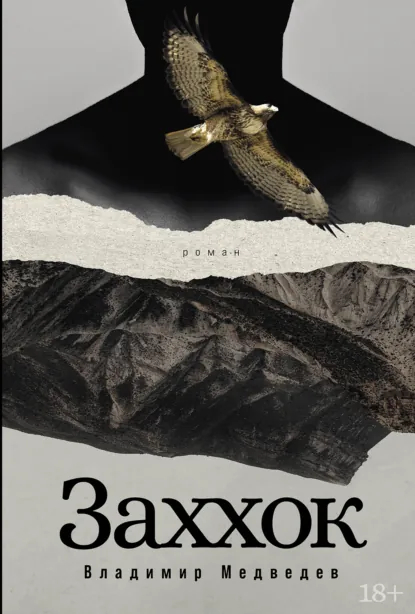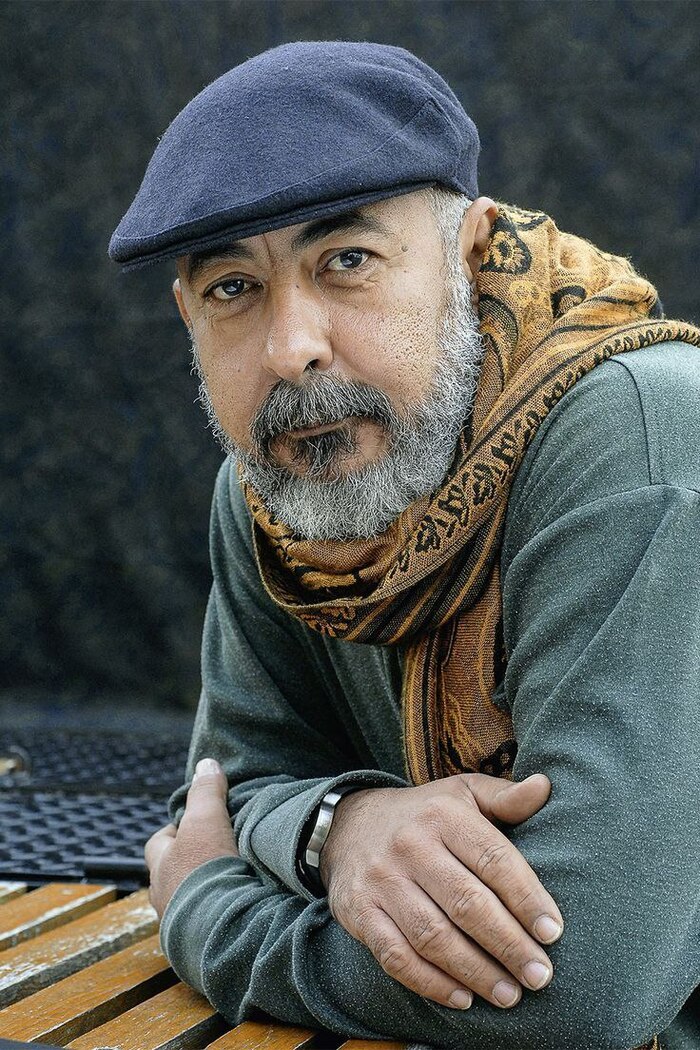Сам Димка, распластавшись в тени раскидистой яблони, старался не шевелиться.
Он наблюдал за муравьём, тащившим в свою песчаную крепость зёрнышко пшена. Это было важное дело, не терпящее суеты.
В доме пахло по-другому — уютом, хлебом, натёртым воском полом. И ещё чем-то, что было связано только с дедом: лёгкий запах махорки, старого дерева и чего-то очень спокойного.
Этот запах был для Димки самым уютным на свете. Он означал, что всё как надо: дед на своём месте, бабка на своём, и ничто не может нарушить привычный ход вещей.
Но в этом привычном мире была одна странность.
Каждую ночь, едва в доме затихали последние звуки и сквозь стены доносился ровный дедов храп, из-под пола начинало доноситься шуршание, будто кто-то невидимый и аккуратный занимался там своими тёмными, но необходимыми делами: перекладывал сокровища, вёл дневник или просто неспешно прогуливался из угла в угол.
В одну из первых своих деревенских ночей Димка, разбуженный этим настойчивым шуршанием, поднял голову и, сквозь сон, спросил в темноту:
Из-за перегородки, не умолкая, послышалось ровное похрапывание.
Потом оно оборвалось, дед крякнул, и его спокойный, хрипловатый голос нарушил тишину:
— Это Подпечник. Он свой. Не бойся. Он у нас на положении военнопленного.
Больше никаких объяснений не последовало.
Через мгновение храп возобновился, а Димка, кивнув самому себе, уткнулся лицом в прохладную подушку.
Слово «военнопленный» он толком не понимал, но тон деда был таким же, каким он говорил о соседском козле Ваське или о бродячем рыжем коте.
Значит, так и надо. Значит, Подпечник — такая же неотъемлемая часть дома, как печка или висящий в сенях тулуп.
Бабка была грозой и совестью этого маленького царства.
Её слово здесь значило куда больше, чем любые писаные законы. Когда однажды утром с веревки, натянутой меж яблоней и баней, пропало её сокровище — вафельное полотенце, выстиранное до идеальной белизны и выветренное на солнце до хрустальной свежести, — в доме грянул скандал, сравнимый разве что с извержением вулкана.
— А-а-а! Где?! — её крик пронзил утренний воздух острее петушиного. — Кто взял?! Димка, это ты?!
Димка, мирно ковырявший землю палкой у забора, испуганно вскинул голову.
Бабка метнулась к деду, который в это время с философским видом налаживал ручку у ведра.
— Дед, не брал мое полотенце?
Дед медленно поднял на неё глаза, помолчал для верности.
— Нет, — выдал он наконец. — Не трогал. Оно тебе, может, и не надо уже? Совсем ветхое.
— Молчи! — отрезала бабка и, сверкнув глазами, направилась к крыльцу. — Так, ясно! Это опять он! Выходи, тварь бесхвостая! Полотенце верни! Я его с сорок пятого года берегла, а ты, паразит, воровать вздумал!
Она стояла, уперев руки в боки, и её фигура, несмотря на возраст, казалась грозной и неумолимой.
Из-под крыльца не доносилось ни звука. Казалось, сама земля затаила дыхание.
— Слышишь?! — бабка притопнула ногой по нижней ступеньке. — А то покормлю тебя мышью отравленной! Или деду ружье принесу — разворочу твою берлогу!
И тут произошло невероятное.
Из узкой щели между половицами и ступенькой послышался короткий, виноватый шорох.
Затем показался уголок ткани. Грязный, изжеванный, в прилипших травинках и земле.
Бабка наклонилась, одним решительным движением выдернула полотенце и подняла его перед собой, словно изучая трофей.
— Фу, мерзость какая… — пробормотала она, но Димка уловил в её голосе странную нотку — не торжества, а скорее привычной усталости. Она свернула испачканную ткань в комок и швырнула его в сторону деда. — На! Тебе на тряпки. Чтоб больше такого не было! — это уже было сказано в сторону крыльца, но уже без прежнего гнева, а с казённой строгостью.
Из-под досок донеслось тихое, отрывистое поскребывание. Казалось, невидимый обитатель понимал всё до последнего слова.
Бабка, удовлетворённо хмыкнув, развернулась и пошла обратно к дому, к своему тесту.
— Хватит глаза пучить, — отрезала она, проходя мимо ошарашенного Димки. — Иди делом займись, а не подслушивай тут.
Вечером, когда страсти утихли, Димка спросил у деда, пока тот точил на бруске косу:
— Дед, а он правда мышей ест?
Дед провёл пальцем по лезвию, проверяя остроту.
— А кто его знает, — ответил он задумчиво. — Может, и ест, а может, и нет. Он у нас больше фарш уважает. Сырой.
— Фарш? — удивился Димка. — А разве… разве так можно? Его же есть нельзя, сырой-то.
— Ему можно, — просто сказал дед. — Он это… за уважение считает. Мы ему фарш, а он нам спокойствие. Честный обмен.
С тех пор как Димка узнал про фарш, вечерний ритуал приобрёл для него особый смысл. Теперь это было не просто кормление невидимого зверя, а нечто вроде дипломатического приёма, который дед проводил с невозмутимостью посла.
Ровно в восемь, закончив ужин и выпив последнюю кружку чая, дед отодвигал тарелку, кряхтя сползал с лавки и шёл к холодильнику — старому, урчащему ящику, похожему на бронированный сейф.
Он доставал оттуда небольшую эмалированную мисочку, уже наполненную сырым фаршем, и с этим своеобразным жезлом власти выходил на крыльцо.
Димка, отложив в сторону игрушечных солдатиков, неслышно крался за ним и садился на верхнюю ступеньку, поджав ноги, чтобы не мешать.
Дед устраивался поудобнее на приступке, ставил миску рядом с собой на доски, пахнущие нагретым за день деревом, и доставал из кармана заветный кисет с махоркой.
Неспешно, растягивая удовольствие, он закручивал цигарку, прикуривал от спички, которую чиркал о подошву старого валенка, валявшегося у крыльца с зимы, и выпускал в тёплый вечерний воздух струйку едкого дыма.
Всё это время из-под крыльца доносилось негромкое, терпеливое похрюкивание.
— Ну что, окопался там? — начинал дед, обращаясь в щель между ступеньками. — Ничего, что я без предупреждения? Делов-то у тебя, небось, невпроворот… куролесишь там целыми днями.
Из-под досок в ответ донёсся звук, напоминающий ворчание. Но ворчание это было одобрительным.
— Завтра, слышь, дождь будет, — продолжал дед, будто обсуждал прогноз погоды с соседом. — К ночи пойдёт. Так что не шуми, а то бабка опять всполошится.
Поскребывание под крыльцом стало тише, как бы в знак того, что информация принята к сведению.
— А бабку свою я уже урезонил, — дед хитро прищурился, глядя на дверь в дом, откуда доносилось сердитое позвякивание посуды. — Она тебя тыкать веником по утрам больше не будет. Шуршишь себе под полом — и шуршишь, твоё дело. Хотя… — он сделал паузу, давая словам нужный вес, — крыжовник-то ты ей первый обобрал, помнишь, позавчера? Только ягоды налились, сахарные, а ты у неё целую ветку — хвать! — и оголил. Чуть не плакала. Так что квиты. Мир. Больше ты у нас ягоды не обижай, а она тебя веником не трогает. Договорились?
В ответ раздалось короткое, отрывистое урчание, которое можно было принять за согласие. Димка, слушая этот диалог, уже не сомневался — под крыльцом живёт настоящий подпечник. Существо, которое понимает всё, даже если не может ответить словами.
Дед, удовлетворившись ответом, молча подвинул миску с фаршем в самую темноту под нижней ступенькой.
Из глубины тут же донеслось довольное, чавканье, но самих движений видно не было, будто миску втянула в себя сама тень. Дед, докурив, спокойно стряхнул пепел с колен.
— Всё, — говорил он, поднимаясь. — Договорились. Теперь до утра тишина будет. Иди, внучек, спать.
И Димка шёл, абсолютно уверенный, что так оно и будет. Потому что дед сказал. А подпечник, хоть и был существом загадочным, но своё слово, выходит, держал.
На следующее утро Димка проснулся с твёрдым намерением провести день с пользой.
Польза эта заключалась в оттачивании мастерства владения кожаным мячом, который многое повидал в своей жизни.
Двор был идеальным стадионом. Ворота обозначались двумя старыми кирпичами у калитки, а роль зрителей с готовностью исполняли куры, с любопытством наблюдавшее за непонятными телодвижениями двуногого.
Солнце уже припекало вовсю, выжигая последние следы ночной прохлады, и воздух звенел от зноя и стрекотни кузнечиков.
Димка, разбежавшись, нанёс удар такой силы, что мяч, со свистом пролетев над головами ошалевших кур, умчался в сторону дома и с неумолимой точностью юркнул в узкую, тёмную щель между фундаментом и нижней доской крыльца.
— Эх, — разочарованно выдохнул Димка, подбегая к месту пропажи.
Щель была тёмной и пахла сырой землёй.
Заглянув внутрь, он ничего не увидел, кроме мрака, в котором утонул его мяч. Мыслей о том, чтобы побежать за дедом или, того хуже, за бабкой, даже не возникало.
Взрослые немедленно начали бы читать лекцию о последствиях и аккуратности. Гораздо проще было действовать самостоятельно.
Он прилёг на тёплые, шершавые доски, вытянул руку и запустил её в прохладную темноту.
Пальцы скользнули по влажной, слежавшейся земле и наткнулись на паутину, отчего по спине пробежали противные мурашки, но мяча не нащупали.
Димка полез глубже, напрягая плечо. И тут его пальцы коснулись чего-то твёрдого и округлого.
Поверхность была не гладкой, а шершавой, будто потрескавшаяся кора.
«Корень какой-то», — мелькнула у него мысль. Но корень был на удивление тёплым.
Димка замер, прислушиваясь к ощущениям.
И в этот миг из самой сердцевины темноты навстречу его ладони медленно, почти нерешительно, выползло Нечто.
Длинные, костлявые и невероятно гибкие. Они не были похожи ни на собачью лапу, ни на кошачью, ни на что-либо виденное Димкой прежде.
Кожа на них, если это была кожа, конечно, напоминала крупную, шершавую чешую чёрного, с отливом, цвета.
Она была теплой и сухой, как нагретый камень. На кончиках пальцев скрючились короткие, но цепкие когти, похожие на обломанные когти старого ворона, только толще и прочнее.
Димка застыл, не в силах пошевелиться. Страх был, но какой-то странный, приглушённый и оттеснённый жгучим любопытством.
Его рука всё ещё лежала на тёплом «корне», а пальцы медленно, с осторожной вежливостью, приблизились и легонько, кончиками, коснулись его запястья.
Прикосновение было шершавым, точно наждачная бумага, но в нём не было угрозы. Скорее, тактильный вопрос: «А ты кто?».
Всё это заняло несколько секунд. Пальцы коснулись его кожи, замерли на мгновение, а потом так же плавно скользнули обратно в темноту, будто бы их и не было.
Только ощущение шершавой теплоты на запястье и полная тишина, наступившая под крыльцом, подтверждали, что это не показалось.
Димка медленно, как лунатик, отполз от щели и поднялся на ноги. Его мяч, как назло, лежал теперь совсем рядом, выкатившись из-под досок, будто его только что вежливо вытолкнули вслед.
Он поднял его, отряхнул от прилипших травинок и, не оглядываясь, пошёл к дому.
Он застал деда в сарае, где тот, сосредоточенно нахмурившись, с помощью старого напильника пытался вернуть остроту зубьям пилы-ножовки. Металл визжал, высекая мелкие искры.
Димка остановился в дверях, переминаясь с ноги на ногу.
— Дед, — тихо сказал он, перекрывая скрежет.
Дед не отрывался от работы.
— Дед, — Димка сделал шаг вперёд. — А у Подпечника… пальцы?
Дед провёл ещё один раз напильником, отложил инструмент и наконец поднял на внука глаза. В его взгляде его не было ни капли удивления.
— Ну да, — ответил он просто. — А то как бы он мои носки воровал? Зубами, что ли?
— Они… с когтями, — настаивал Димка, чувствуя, что взрослые иногда бывают удивительно непонятливыми. —И в чешуе.
Дед прищурился, вглядываясь в лицо внука, помолчал не спеша, по-хозяйски, и медленно провёл ладонями по потрёпанным брюкам
— Ага. Значит, допекло. Видать, заскучал. Ладно… — Он тяжело вздохнул, но в глазах его мелькнула странная искорка — не то радость, не то удовлетворение. — Раз уж ты в курсе, придётся помочь. Пора ему домой.
Они сидели на завалинке с подветренной стороны дома, где пахло нагретым деревом и сухой полынью. Дед медленно, растягивая процесс, скручивал толстую, несуразную самокрутку, отчего разговор приобретал особую и неторопливую значимость.
Димка, притихший, ждал, понимая, что сейчас услышит что-то важное.
— Он… не здешний, — наконец произнёс дед. Спичка, чиркнутая о подошву, на миг вспыхнула, обрисовав морщинистые пальцы и тлеющий кончик самокрутки. Дед затянулся, выдохнул, и из его губ медленно выползла струйка дыма. — Ты ведь и сам уже понял: не собака он… Его сюда, ко мне… подкинули...
Димка широко раскрыл глаза.
— Ну… как бы тебе попонятней… — дед почесал затылок, придерживая цигарку в зубах. — Хозяин его. Такой… звёздный чертик, что ли. Сам маленький, светился весь, а этот, — он кивнул в сторону крыльца, — у него, видать, питомец был. Щенок, что ль.
История, которую рассказал дед, была похожа на самую невероятную сказку, но он говорил о ней так же просто, как о вчерашнем дожде.
Холодной осенней ночью много лет назад, когда дед вышел во двор проверить калитку, он увидел на пороге гостя.
Маленькое существо, от которого исходил мягкий, мерцающий свет. Оно было ранено, еле держалось на ногах, а на руках, прижимая к груди, держало свёрток — тёплый, шевелящийся комочек, своего детёныша или верного спутника.
— Он мне его, значит, в руки сунул, — дед покачал головой, глядя куда-то в прошлое. — Глазами так смотрит, понимаешь? Без слов всё ясно. Мол, пригляди, я вернусь. А сам еле дышит. Ну, я взял. А он… он ушёл. В ту же ночь. И не вернулся.
Дед умолк, дав Димке осознать услышанное. В воздухе повисло молчание, нарушаемое лишь жужжанием пчел и потрескиванием тлеющей махорки.
— И… и он так и жил под крыльцом всё время? — тихо спросил Димка.
— А куда ему было деваться? — развёл руками дед. — Бросить что ль? Он же живой. Оказался, значит, на положении военнопленного. Так и прижился.
Димка представил себе «звёздного чёртика», уходящего в ночь, и тёплый комочек, оставшийся ждать под скрипучим крыльцом. Грустная история. Очень грустная.
— А теперь что? — спросил он.
— А теперь, — дед стряхнул пепел, — его домой отправлять пора. Хозяин не вернулся, так хоть его, подкидыша, на родную сторону отправить. Пора уже. Заждался.
Вечер того же дня застал их за чаем с бабкиными пышками. Димка, обжигаясь, дул на кружку с молоком и смотрел на деда, ожидая продолжения.
— Дом его, — начал дед, обмакивая пышку в чай, — тут недалеко. Вон в том колодце, что за баней.
Димка поперхнулся, не столько от молока, сколько от воспоминаний.
— В колодце?! — выдохнул он. — Я туда в прошлом году мяч… — он запнулся, вспомнив, чем закончилась та история с котом, верёвкой и его «гениальным» планом по спасению мяча, после которого кот три дня на него обижался, а дед с трудом отмывал их обоих от грязи.
Дед, видя его смятение, хитро прищурился.
— Знаю, знаю. Только этот колодец… он не простой, — дед помолчал, подбирая слова. — Сухой, можно сказать. Или не то чтобы сухой… а скорее.... — задумался на секунду, — как сломанная дверь. Звёздные врата, по-ихнему.
«Звёздные врата» произнёс он так же просто, как если бы говорил о двери в сарай.
Димка слушал, раскрыв рот.
В его голове старый, поросший мхом сруб вдруг предстал в новом свете — не ямой в земле, а порталом в самую гущу ночного неба.
— И… мы её, эту дверь, починим? — спросил он.
— Вот именно, — кивнул дед. — Починим. Как забор. Только инструменты нужны особые.
Он вдруг строго посмотрел на внука:
— Только котов к делу не привлекай. Договорились? Справимся своими силами
Дед отодвинул пустую чашку и начал загибать пальцы:
— Во-первых, три гвоздя. Ржавых. И чтоб все три — на счастье найдены.
— А как это — на счастье?
— А это уж как найдёшь, так и поймёшь. Во-вторых, горсть лесной черники. Самой чёрной, чтоб аж синевой отливала. Она, видишь ли, как кусочек ночного неба.
— А в-третьих? — нетерпеливо спросил Димка.
Дед посмотрел на него поверх чашки.
— А в-третьих… искра. Искра детского восторга. Самая сложная штука.
— Это, внучек, чтоб ты очень-очень обрадовался. От души. А я в этот момент её поймаю. Без неё дверь не откроется. Фундамент, понимаешь, для прохода нужен.
Поиски гвоздей начались на следующее утро и сразу же превратились в странное и увлекательное паломничество по местам силы дедова хозяйства.
Дед объявил, что просто так, с потолка, гвоздь брать нельзя — он должен быть найден «на счастье».
Первый гвоздь Димка нашёл, едва не распоров себе колено.
За мячом, закатившимся в тёмный провал под поленницей, пришлось лезть почти что ползком.
Бабка, увидев его манёвры, бросила с порога: «Куда прешь, шкет? Если хочешь найти потерянное, спроси у лесного деда!».
А лесной дед, как все в деревне знали, жил как раз под дровами и обожал, когда мальчишки падали носом прямо на его ржавые гвозди.
Димка, конечно, не упал, но, выцарапывая мяч из-под колотого полена, он действительно наткнулся ладонью на острый, холодный штырёк.
Из старого, потрескавшегося бревна торчал его первый гвоздь — корявый, весь в рыжих подтёках и с шершавой шляпкой.
— Вот! — торжествующе протянул он находку деду, выползая на свет.
— Ну, это верная примета, — оценил дед, повертев гвоздь в пальцах. — Сам Лесной Дед тебе его выдал. Значит, путь наш верный.
Второй гвоздь обнаружился в сарае, торчащим из старого, рассохшегося пня, который служил деду то табуреткой, то подставкой. Дед вытащил его клещами с таким видом, будто проводил ювелирную операцию.
— Этот пень, — пояснил он, — ещё при царе тут рос, можешь себе представить? Его гвоздь — он с памятью и историей. Для прочности пути важен.
Третий гвоздь искали дольше всего. Они обошли весь огород, заглянули в дровяник, но ничего подходящего не находилось.
Уже готовые сдаться, они вышли к калитке, и тут дед вдруг остановился и ткнул пальцем в землю у самого края дороги.
Из сухой, утоптанной глины почти целиком торчал ещё один ржавый гвоздь, будто ждал их именно здесь.
— А этот, — с удовлетворением констатировал дед, подбирая находку, — самый важный. Дорожный. Он путь знает и сам укажет, где ему кончаться. В самый раз для нашего дела.
С черникой было проще, но не менее таинственно.
Они взяли жестяную кружку с отбитой эмалью и отправились на ближнюю опушку — туда, где кусты стояли сплошной стеной, усыпанные тёмно-синими, почти чёрными ягодами.
Солнце пробивалось сквозь листву, и в его лучах ягоды отливали глубокой синевой, будто вобрали в себя сам цвет ночного неба.
Димка аккуратно, одну за другой, срывал самые крупные и спелые. Кружка медленно наполнялась прохладными бусинами, пахнущими лесом.
Работа шла молча и сосредоточенно, будто они собирали не ягоды, а крошечные звёзды для будущей дороги. В
ернувшись домой, Димка с гордостью поставил полную кружку на стол.
— Всё? — спросил он деда, вытирая фиолетовые пальцы о штаны. — Теперь искру?
Не всё, — сказал дед. — Ягоды сначала надо подготовить. Напоить ночью.
Он взял деревянную толкушку и, несильно, но с чувством, стал давить чернику в кружке.
Ягоды лопались с тихим хлопком, превращаясь в густое тёмно-фиолетовое пюре, от которого теперь пахло не только лесом, но и какой-то сладкой, глубокой тайной. Сок окрасил стенки кружки в лиловый цвет, похожий на закатные облака.
— Теперь, — сказал дед, отставляя кружку в сторону, — самая сложная часть. Искра.
Самая сложная часть» оказалась для Димки самой непонятной.
Он стоял посреди двора и пытался вызвать в себе восторг нарочно. Широко улыбался, глядя на солнце. Прыгал с ноги на ногу, воображая, будто поймал гигантского карася. Даже встал на руки, надеясь, что дед сочтёт это достойным поводом для искры.
Дед сидел на крыльце и наблюдал за этими ужимками с каменным лицом
— Нет, — говорил он, терпеливо глядя на очередной акробатический этюд. — Это не то. Это как ненастоящая монета — блестит, а купить на неё ничего нельзя. Восторг должен сам из тебя вырваться.
Отчаяние начало подкрадываться к Димке. Как можно заставить себя обрадоваться по-настоящему?
Это же как чихнуть или икнуть — либо получается, либо нет.
Ситуация разрешилась сама собой вечером того же дня.
Дед, кряхтя, выкатил из глубин сарая старый, ржавый велосипед «Урал». Он был огромным, похожим на железного коня из прошлого века, и Димка смотрел на него с благоговейным ужасом.
— Садись, — коротко сказал дед. — Научишься на двух колёсах держаться — искра сама прискачет.
Димка никогда не ездил на двухколёсном ведлсипеде. Это было страшно и заманчиво одновременно.
Дед, вспотевший и красный, бежал рядом, держа его за шиворот и за седло, и дышал, как загнанная лошадь.
— Крути педали, чёрт мохноногий! Крути! Равновесие лови! — кричал он.
Двор уплывал из-под колёс неровными рывками.
Димка чувствовал, как его бросает из стороны в сторону, как непослушный руль норовит вывернуться.
А потом… потом дед на секунду отпустил руку.
Земля перестала дёргаться, ветер засвистел в ушах ровной, уверенной струёй, а стена сарая поплыла мимо него плавно и величественно.
Ощущение было таким острым, таким всепоглощающим, что из его груди вырвался не крик, а настоящий, ликующий рёв:
В этот самый миг дед, стоявший посреди двора с потным, усталым, но довольным лицом, ловким движением подставил навстречу заходящему солнцу старое, треснувшее стеклышко от карманных часов и поймал в него лучик света.
Он дрожал, переливался всеми цветами радуги и был таким ослепительно-ярким, будто и впрямь был соткан из чистого, ничем не разбавленного счастья.
Дед бережно прикрыл стеклышко ладонью, словно поймав в него хрупкую бабочку, и сунул в карман.
— Ну вот, — сказал он, подходя к Димке, который, сияя, подъезжал к нему на своём железном коне. — Теперь у нас есть всё.
Наступила тихая и безлунная ночь, такая тёмная, что на небе проступали даже самые мелкие и робкие звёзды.
Воздух остыл, запахло ночной прохладой, полынью и потянуло дымком от печной трубы.
В этой торжественной тишине они с дедом и двинулись к колодцу.
Из открытого окна горницы донёсся бабкин голос:
— И куда это вы, окаянные, в ночь пошли? Чтоб вам пусто было!
Дед только махнул рукой в сторону дома, словно отмахиваясь от комара.
— Она добра желает, — шепнул он Димке. — По-своему.
Дед нёс перед собой миску с фаршем, как факел, а Димка сжимал в одной руке свёрток с их сокровищами — три ржавых гвоздя и тряпицу с черничным пюре, а в другой — заветное стеклышко.
Оно лежало в его ладони, холодное и ничем не примечательное, но Димка знал, что внутри него спит пойманная искра дестского восторга.
Когда они поравнялись с крыльцом, из-под него послышалось настороженное шуршание.
Дед тихо свистнул, и через мгновение из тени под ступеньками возникла тёмная фигура. Подпечник.
При слабом свете звёзд он был совсем не таким, как представлял его Димка в своих самых смелых фантазиях. Он не был страшным. Он был… другим.
Существо было размером с крупную собаку, но на этом всякое сходство заканчивалось. Его длинное, гибкое тело было покрыто не шерстью, а крупной, переливающейся в темноте чешуёй, похожей на потрескавшуюся вулканическую породу.
Длинная шея венчалась некрупной головой с почти неразличимыми чертами, и только глаза — два больших, матово светящихся зелёным светом пятна — смотрели на них с бездонной, древней печалью.
Он прихрамывал на одну из своих шести костлявых лап, и от всей его фигуры веяло такой тоской и таким бесконечным ожиданием, что у Димы защемило сердце.
— Ну что, старый друг, — тихо сказал дед, ставя миску на землю. — Пришла пора.
Существо не стало есть. Оно лишь ткнулось мордой в дедову руку, издав короткий, горловой звук, полный благодарности. Потом повернуло свои светящиеся глаза на Димку, и мальчику почудилось, что оно кивает ему.
— Ладно, хватит нежностей, — дед нарушил момент, и в его голосе слышалась та же сдавленная грусть. — Пора тропу открывать. Давай сюда инструменты, внучек.
У колодца было ещё темнее.
Дед действовал чётко и молча, будто делал это не в первый раз. Он взял у Димы черничное пюре и густо намазал им край сруба с восточной стороны. Тёмно-фиолетовая масса почти слилась с чернотой дерева.
— Гвозди, — тихо скомандовал он.
Димка подал три ржавых гвоздя. Дед взял их и, приговаривая что-то неразборчивое под нос, вогнал их шляпками вверх в намазанный черникой сруб. Они торчали теперь, как уродливые ржавые памятники.
Наступила самая важная часть.
— Ну, — дед обернулся к Димке. — Давай сюда свою искру. Направь на гвозди.
Рука у Димы чуть дрожала. Он разжал ладонь, взял стеклышко и, поймав им отблеск далёкой звезды, направил крошечный лучик света прямо на средний, «дорожный» гвоздь.
В тот же миг из чёрной глубины колодца, из самой сердцевины темноты, вырвался узкий, плотный столб холодного фиолетового света.
Он был не слепящим, а глубоким, бархатным, и уходил прямо в небо, растворяясь в вышине. Внутри этого столба кружились и переливались мириады крошечных искр, словно это был проход сквозь саму ткань ночи.
Подпечник вздрогнул всем телом. Он издал протяжный, вибрирующий звук, похожий на свист ветра в пустоте, и сделал шаг вперёд.
Он обернулся и в последний раз посмотрел на них — сначала на деда, а затем на Димку. В его зелёных глазах больше не было печали — только безмерная, вселенская благодарность. Потом он развернулся и шагнул в сияющий столб.
Его чешуя вспыхнула, и,вобрав в себя свет, контуры существа поплыли, стали прозрачными и на мгновение слились с сиянием, словно его нарисовали на стекле, а теперь стирали.
Через мгновение его не стало.
Столб света дрогнул, сжался в тонкую нить и погас, точно перегоревшая лампочка.
Дед тяжело вздохнул и первым подошёл к колодцу. Димка, не в силах пошевелиться, смотрел, как дед наклонился и что-то поднял с земли у сруба.
Это были три ржавых гвоздя. А на краю колодца осталось лишь тёмное, липкое пятно — всё, что осталось от горсти лесной черники.
На обратном пути к дому они молчали.
Димка шёл, чувствуя странную пустоту, не грусть даже, а скорее тихое, щемящее удивление от того, как быстро может закончиться то, что, казалось, было всегда.
— Воевал, — внезапно и совсем не к месту сказал дед, прервая тишину. — Женился. Детей вырастил. Всю жизнь за хозяйством следил, чтоб крыша не текла и чтоб в закромах не пусто было. — Он сделал паузу, глядя куда-то поверх тёмного конька крыши. — А самым сложным делом оказалось… искру детского восторга поймать. Вот ведь как бывает.
Он не стал ничего больше добавлять, и Димка ничего не спросил. Этих слов было достаточно, чтобы всё встало на свои места.
Войдя в сени, они услышали ровное, мощное посвистывание — бабка уже спала. Дед поставил миску в раковину, и этот привычный, бытовой звук окончательно вернул их из звёздной бездны обратно, в тёплый, пахнущий хлебом дом.
Димка залез в свою лежанку на печи и уснул.
Наутро Димка проснулся с лёгкой грустью. Казалось, в доме стало тише от исчезновения шуршания, что все эти годы скрепляло стены и придавало дому тайну.
За завтраком дед, как ни в чём не бывало, налил ему парного молока и ткнул вилкой в сторону крыльца:
— Не кисни. Он теперь дома. На своём месте. А нам, — дед подмигнул, но в этот раз в его глазах читалась привычная хитрость, — теперь надо нового барсука под крыльцо приманивать. А то, и правда, скучно очень. И тихо.
Димка кивнул. Грусть его была светлой, стеклышко с пойманной искрой.
И в ней уже зрело предвкушение новой тайны — потому что если в мире есть звёздные гости, значит, где-то рядом обязательно водятся и речные, и лесные, и подпечные.
И дед точно знал, как их найти.