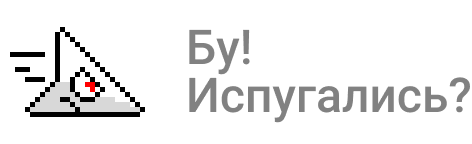Данный рассказ является предысторией к рассказам:
Поэтому легко читается отдельно. Просто зарисовки из таёжного леса, где происходит много странного и мистического.......
Есть в дураках некоторое очарование. То, как чуднó они «раскладывают» мир на слова. Не в тех, в ком дурь просыпается спьяну или душа отчего-то сильно замаялась, а в дурачках по рождению – блаженных. Которые пришли на этот свет такими и до самой смерти иными не станут.
Марфусь все двадцать девять лет жил в родной деревне, и слыл всегда безобидным. Громко дудел с пяти утра летом, забравшись на толстый шест для дохлой вороны: ловко карабкался на него как по канату, прыткий был и худой. Болтался потом на самой макушке словно флюгер, раскачивался иногда, аж дух захватывало. Мёртвую птицу приколачивал дед Лукьян. Отпугивал ей всех живых, что слетались клевать урожай. И бесполезно дурачку говорить, что так делать нельзя – он всё равно залезал, выдёргивал у вороны перья, бросал их и наблюдал, как долго те кружатся, плавно падая вниз. А потом доставал из-за пазухи дудку. Тонкий сипящий звук никого не будил, в деревне вставали рано.
«ВСЁ-вижу-оттуда! – монотонно и тыча пальцем в небо, на верхушку шеста, говорил Марфусь, когда дед Лукьян всё же сманивал вниз сладким пряником (не до обеда ж сидеть!), и тот с неохотой спускался к нему. – Ты-снова-большой-внизу! А-сверху-ты-маленький… Как-божья-коровка…»
Лукавил, конечно, шутил – Лукьян с высоты трёх метров смотрелся немного меньше, но точно уж не казался букашкой! Хорошая у дурачка была память, запоминал за сельчанами шутки, слова, выражения. Однако часто вставлял их не к месту. Не чувствовал мир, как другие, видел его иначе. И не сказать, что совсем вразрез.
«Ты-божья-коровка, Лукьян… – говорил, показывая на ладонь, и тыкал в неё нестриженным ногтем. – Маленькая. Во-о-от-такая… И-Боженьку-не-гневи. Не-вешай-мёртвую-птицу, а-в-землю-зарой…» Не все понимали нечленораздельные возгласы дурачка, но те, кто слушали, приноравливались.
Родственников у Марфуся не было сызмальства. А как помер дед Лукьян, так и вовсе стал одиноким. Оставили жить в его доме, собственный-то совсем обветшал. Одежду и еду ему приносили, кормили всей деревней, не принято было бросать неспособных к работе. Шест даже новый, как столб – потолще и покрепче – в землю вкопали. Ступени-перекладины приспособили, что б не расшибся дурачок, взбираясь наверх как по мачте корабля. Так он и зимой лазать начал по такому удобству, сипел с высоты со снежной вьюгой вместе. Сманивали уже мужики, когда печь к нему топить приходили.
«Воро́н-зарывать-не-хотел, – подняв назидательно палец, вздыхал тяжело Марфусь. – И-лёг-замест-них-в-земельку…»
Плакал по деду Лукьяну, убивался. Весна уже давно наступила, близилось лето, а он всё горевал………
– Сильней тяни!.. Сильней!.. – свирепо орал на них Митрофан, и борода его, полная ледяных брызг, топорщилась вместе с бугрившимися от натуги шéйными жилами. Вены становились толще – и борода поднималась выше.
Все четверо стояли в воде по пояс. Тонкие брёвнышки, что сцепили и готовили к сплаву, поехали – штырь из земли вышел бесшумно. Правильно говорил Афанас: не взвидят, утянет потоком связку. Надо было два или три за раз в грунт вколачивать, одним такую перевязь не удержать. Если б Гришка Орлов не обернулся, бежали б уже по берегу и махали руками; а брёвна бы их не слушали – плыли б себе по притоку, и там, у устья, некому было бы выловить. Просто ушли бы в Лену, русло-то до неё прямое. Мало ли она по весне утаскивала, какое ей дело до мелких «щепок»? Целую домину один раз подрыла с фундаментом: та долго стояла на её берегу, но как-то весной унесла. В прежние времена затапливала края деревень, когда разливалась раз в четверть века шире, после особенно долгих и снежных зим, или в местах, где впадают притоки. Пять случаев было в этих краях, и люди их помнили.
Вытянули-таки вчетвером свою перевязь, подтащили к берегу. Двадцать обтёсанных брёвнышек, для нового коровника в Ерофеевке – опоры под крышу.
Однако даже пару минут, проведённых в холодной воде, могли обернуться худом. Снег в мае в лесу только сошёл, и пока не везде. Осевшие плотные толщи ещё наблюдались, прятались от лучей в тени хмурых сосен, в корнях, в глубоких подъямках с валежником, даже с одной стороны их избушки и возле большого сарая дальше. В оврагах поглубже и вовсе лежать до июля будет.
Собрáлись в избушке. Митрофан громко отплёвывался. У него у первого из них началá куститься борода, чёрная, колосьями, как у настоящего мужика. И грудь – точно медвежья, заросшая. У них же, у остальных, жиденько проступало на подбородках, с виду – словно телячий чуб, вроде и кудрявится, а проведёшь по лицу портянкой – как будто и побрился. Зимой им исполнилось по двадцать, и только Митроне пошёл двадцать третий. Вот руки – у всех были мужицкими. Ладони в мозолях, как поросячьи копытца, и дальше, выше до плеч – в тугих натруженных жилах и посечённые мелкими шрамами. Где кто соткнул гвоздём, где топором защемил, где щепа сама зацепила. Худые все, молодые, крепкие и до работы голодные. Семьи нахвалиться не могли, сам председатель Митрофану грамоту прошлым летом вручал. Только Егор жил из них один. Последней в семье пару лет назад умерла его бабка. На дворе шёл тридцать четвёртый год.
В избе, чтобы не расхвораться грудью после такого купания, соорудили нечто вроде баньки. Быстро разожгли пожарче печь, добавили поближе на угли дрова и до белá раскалили железный шесток. На него ещё наложили сверху камней, растёрлись бутылкой водки. Самим по граммулинке лишь досталось внутрь – то было радости!
А потом из ковша плескали водой, когда камни стали горячими. Пепел с сажей летели до потолка. Смеялись и фырчали, пару от булыжников и печки было много. Такая она, дружная юность! С детства всюду лазали вместе. Вчетвером и решили податься в промысловики. Пока для коровника отбирали брёвна, пóходя всё обговаривали. Гришка предложил первым, а Афанас подхватил. Егор уже с Митрей их, самых младших и шустрых из четверых, послушали. Сами до этого не помышляли, о своих лишь хозяйствах думали.
Через полчаса пришли ерофеевские. Гришка с Митрей нарочно суровый вид напустили – сразу, как те вошли. Хоть и смешно было рожи в исподнем корчить, но всё равно. В прошлом году насилу их докричались, когда рук не хватало. Звали помочь на делянку, но ерофеевские мужики слыли ленивыми. Откликнулись дня через три. Теперь же – надо было самим; брёвна для них приготовили быстро, вот только сплавлять будут сами. За своим-то сразу явились.
– Гостинец! – громко, поздоровавшись, сказал старший из двоих вошедших. Мотнул бородой и положил свёрток на стол.
Ему точно так же молча кивнули. Не принято было, как барышням, в благодарностях рассыпаться. И проводили обоих гостей в спины взглядами. А едва те вышли на крыльцо избы, наперегонки вчетвером бросились к газетному свёртку на столешнице.
Тёплый почти, из печки, белый каравай хлеба. Огромный шмат копчёного сала из погреба и литровая бутыль самогонки. Большущая вдобавок луковица, головка чеснока.
– Коли так, может ещё раз «баньку» протопим?..
Молодость бежала впереди подгоняющих слов. Это старый Иван, дед Афанаса, прежде чем выйти полоть огород, два дня собирался как на охоту – а огород был разбит у дома, под боком. Слова Григория ещё не затихли – Егор же уже подкидывал заново дров, располагал полукругом камни, что б прокалились получше. Митрофан откупорил бутыль. Словно пыжом ей заткнули горло, туго выходила самодельная пробка. Булькнула вкусно, зазывно заставила всех обернуться. Нож резал сало, руками ломался хлеб.
– А ну-ка братцы, гляньте в окно! Неужто и снег пошёл?
Пошёл. Да ещё какой. Валил большими пушистыми хлопьями. Как будто на крыше у них кто стоял, вспорол подушки и нарочно сверху вытряхивал – а перья и сыпались, словно листья по осени. На самом деле явленье не редкое. В этих краях снег в мае бывал. Посыплет часок, и снова на солнце растает. Не зря показалось снаружи холодно.
Да только до снега ли стало? Разгорячились уже, готовились остаться с ночёвкой. Ну, поглазели наружу – и тут же про холод забыли, чего горевать? Немного ещё опрокинули – повеселели совсем. Гостинцы от мужиков жевали в охотку: с хрустом, под сальце, грызли здоровую луковицу, откусывая от неё по-очереди, катали друг другу по столешнице и ловили ладонью, будто воротами мяч на широком футбольном поле. А кру́жки, снедь и стаканы – словно чужая команда, давали меж ними пасы. Бутыль – как судья. Весело стало им.
Зверев Митрофан громко кхекнул. Стряхнул с ладоней крохи, отправил в рот бочок луковки – и матч завершился съедением. Пока не прогорело до новой «баньки», глянул на остальных, глаза его зажглись любопытством. Все сразу поняли суть перегляда.
– Ну, говори – как видел-то всё?
Привык Афанас, что часто его об этом просили – заново всё пересказывал им троим, не обижался: тут не в беспамятстве дружеском дело было. Добавить сверх ничего не мог, а они всё равно – сидели, разинув рты, развешивали лопухами уши. Ждали, вдруг вспомнит чего-то новое. Один он ведь тогда свидетелем стал случившемуся, можно сказать, счастливым везунчиком – ушёл от солдат в лесу незаметно, по-тихому. И начинал свой рассказ всегда одинаково: «Эх, не сидел бы тут с вами я… Если б не тот пожар…»
А вышло, что в декабре прошлой зимы их друг Афанас, вместе с дедом Иваном, ездили за сорок вёрст от Лены. Оставили на хозяйстве родственников. Сами же наведались к другим – ходить на беляка на лыжах. Не первую зиму подряд его там помногу били. Плохо ружьё держал внук охотника – вот дед и взял с собой на выучку, к двоюродному брату, известному в тех деревнях добытчику малого зверя. Да только Афанас отбился от них однажды. Внезапно началась пурга, в лесу завьюжило, он и отстал.
Немного поплутал в одиночестве. Вышел потом куда-то на дым, когда метель улеглась. И выбрался к месту, где быть никого не должно. Раньше туда никто не ходил. Лагерь в той стороне стоял прежде, для заключённых, на девять или десять бараков. Был обнесён колючкой, а за столбами с нею – высокий забор, четыре смотровые вышки. Стоять-то он так и остался, только с прошлого, на то время, года уже пустовал – всех постояльцев расселили по другим лагерям. Забросили, в общем. Известия же об этом среди охотников разошлись. Запрета там появляться не сняли, однако год уже не наблюдали постов на единственной к нему подъездной дороге. Такое примечается быстро, особенно теми, кто часто охотится. Ибо нет зверя любопытней, чем человек: свой нос сунет везде, где не надо. Вот и разнюхали. Всё ближе и ближе подступались к месту, а там – словно давно никого, ничего, и с виду как будто заброшено. Афанаса, уставшего и замёрзшего, выйти аж к самим баракам с забором в тот день угораздило. И чуял же, что идёт не туда – по солнцу-то в небе не видел, то точно в нём растворилось, но думал, что к какой-то деревне на лыжах выходит. А как отшагал ещё немного, сразу присел. Заметил вдалеке, что забор повален. Послышались затем голоса, собачий лай, увидел солдат с винтовками и как что-то дымилось. Горело в разных местах, будто что-то сжигали. Тут сразу и понял, куда ненароком забрёл. Чтобы не выдать себя, подобрался чуть ближе – выполз к пригорку, за которым укрылся, и оттуда за всем наблюдал. Всё удивлялся тому, что следа туда не вело. Один был только, за ним – его собственный, лыжный.
– И как же вот так?.. – перебил Гришка Орлов. – На ветролётах что ли прибы́ли?..
Гришаня задавал всё те же вопросы, как в первый раз, не уставал об этом спрашивать: откуда там взялись солдаты? Если не было давно никого и дорога стала ненужной, то как и с какой стороны зимой туда попали военные?
Афанас всё так же не мог ответить. Сам не успел ничего понять, когда начался вдруг пожар, и загорелись не только бараки, но вспыхнул и зимний лес. Что-то сильно рвануло, возможно, какое-то горючее. Пламя, как будто от взрыва, тут же разметало по округе. Кто-то громко орал, отдавал приказы. Затем защёлкали патроны в большом количестве, словно огонь проник на оружейный склад. Всё было странно в тот день – от лесного пожара до взрывов. Виданное ли дело, что б зимой горел лес, и пламя, как шальное, с дерева на дерево перекидывалось? Афанас говорил, что один из солдат его даже увидел, но сделать ничего не успел, потому что новая вспышка осветила место бывшего лагеря. Вот тогда их друг развернул лыжи и дал дёру. Даже не успел задуматься, откуда в заброшенном месте столько запаса патронов. Слышал их щёлканье долго, пока уносил ноги. И за спиной, освещая небо, разливалось бордовое зарево.
– И видел, как людей мёртвых тоже жгли? – распалялся рассказом Митрофан.
– Да не вида́л, не вида́л! – махнул в который раз рукой Афанас, поскольку нового у него так и не спрашивали. – Откуда там люди, если лагерь закрыли? Это уж потом говорить стали, хотя сам я так никому не сказывал. Мол, последних заключённых сжигали. Их же там нет давно!
Были или нет, но слухи такие разошлись. Пусть и никто, кроме их Афанаса, не мог похвастаться присутствием в тот день рядом с горевшим лагерем. Более того, сгорело много гектаров леса. Может, оттого и заговорили о чудесах, дескать, пожар-то был непростой: на костях людских разжигали огонь солдаты. Небушко гнев свой грешникам и явило.
– А что?!. – вскинулся теперь Григорий. – Саргын-охотник ещё не пропал, а призраков тех уже видел … Он СЛЫШАЛ, как они воют. И старый Вилдай! Оба же сгинули – как раз прошлой зимой, в феврале!..
«Уууууу…» – тихо и грозно, не открывая рта, подвыли ему Егор с Афанасом.
Но Гришка заметил и засмеялся.
Коротко посмотрел в печь.
– Камни готовы, – сказал он.
Глянул потом на Митрофана.
– А ну-ка, Митроня! Пока не поддали парку, яви нам, как шею сворачиваешь!
Зверев Митрофан сразу раздулся – знал, о чём просят. Расправил широкую грудь, показав, что готов угодить друзьям, взял со стола бутыль. Разделил по стаканам остатки.
Григорий же больше всех разошёлся – сильнее схмелел от выпитого.
– А ты, Горя? – хлопнул он легонько Егора. – Что всё молчишь? Смотри, какой у нас богатырь, наш Митроня!
Митрофан между тем обхватил бутыль – не в первый раз показывал удаль. Óбнял одной рукой, прижал крепко к телу. Другой – взял ладонью за горлышко. Тужился, тужился, пока шея его не покраснела, и вены на ней не вздулись. Крепкое было стекло, закалённое. Однако ссилил ленский богатырь – горлышко отломил. Хрустнуло и покатилось на стол, когда разжал пальцы. Теперь уже по спине, по плечу хлопали все силача-Митрофана. А он – отдувался, взопрел от такого напряжения.
– Парку́! – объявил громко Григорий, и взялся за ковш. Егор же налил в него кипятка.
Изба была тесной, но баня всё ж никакая – нет ни настилу сверху, ни прочего, что б пар от камней удержать. Но разве ж запретишь четверым молодым ленчукáм отлынивать от забот, когда за окном валил зимний снег и не на шутку лепил сугробы? Вот и резвились, пока не измазались больше сажей из печки, нежели стали чище.
Афанас первым отстал от веселья. Взял нож со стола и отошёл к стене. Что-то долго там вырезал, пока остальные переговаривались, да вспоминали, как пропали в лесах Саргын-охотник и прочие мужики за последних два года. Насчитали по деревням четверых. Тело нашли одного, остальные ж исчезли бесследно. Дядьку Вилдая последний раз видели в феврале, шёл на охоту, а после, в апреле, кто-то нашёл его лыжи. К дереву были прислонены. И если уж подумать, то раньше, до того, как лагерь с мизгирём на воротах сгорел, не припоминали, чтобы охотники пропадали так часто.
– И что ж они сюда-то, за сорок вёрст ходят, призраки? – не унимался в лёгком хмелю Григорий. – Нет деревень поближе?
– А та-а-а-ам... – прищурив глаз и подняв вверх палец, сказал Митрофан, – там люди целыми деревнями под землю уходят! Призраки их туда загоняют. Обратно не выпускают. К нам – это так, прогуляться…
– Да ну вас! – обиделся Григорий, что никакой серьёзности к его вопросу не проявили.
Сверху как будто что-то упало – грохнулось прямо на крышу. Егор поднял голову. Снег, поди, с мохнатых сосновых лап, одно дерево стояла вплотную к избе. Быстро отвлёкся – Гришка в него плеснул холодной водой.
А тут ещё всех позвал Афанас.
– Идите сюда! – крикнул он от стены; отошёл, что б смотрели, что там успел нацарапать.
Как дети малые кинулись к нему через стол, едва не опрокинули. Толкали друг друга, пихались локтями. Сгрудились вместе у стены и стали разглядывать. Афанас на бревне вырезал четыре их имени. Зверев Митрофан. Хлебников Егор. Орлов Григорий. И он –Афанас Никитин. В школе над ним не зло посмеивались: «Ну, как, Афанаска? Ходил за три моря?..»
– Зачем? – разведя плечами, спросил добродушно Митрофан.
– Что б знали! – вытаращил Афанас узкие глазки. – Что мы здесь были! И сами прочтём, лет через двадцать…
– Коли солдаты твои не придут и не сожгут эту избу… – ехидно подтрунил Григорий.
Громко и отчётливо раздался стук в сенях. Как будто что-то упало с лавки, вроде полена, и покатилось. Потом – тишина…
Переглянулись. Снега навалило как зимой, погода словно взбесилась. Неужто из ерофеевских мужиков кто вернулся, да так поздно, под вечер? Не за ними ли? Принесли тёплой одежды? Эти – навряд ли… Да и кто полезет сюда? Помощи в работе ни у кого не просили, ерофеевские пришли и стали сплавлять брёвна сами, поди уже в Михайловском рыбацком стане парились в настоящей бане. Может, сверху из леса кто возвращался, заглянул, увидев в пургу дымок. Только встал почему-то в сенях и не шёл дальше в и́збу.
– Пойду посмотрю… – сказал Егор и шагнул к закрытой двери.
«Уууууууу…» – загудели вдогонку его мужики. А после заржали.
Открыл. Выглянул с любопытством. Не сразу глаза привыкли, хоть распахнул дверь широко и выпустил в сени немного света. Окна были маленькими, в избе наступал полумрак. И снег ещё шёл пеленой, добавляя им вечера.
А когда разглядел-таки гостя, то, не сдержавшись, выругался.
Обернулся к своим, так и оставив дверь открытой, посмотрел и пожал плечами, развёл руками в изумлении.
– Марфусь… – произнёс он коротко.
– Чего?.. – не поняли все.
– Марфусь, говорю, сидит, – громче повторил Егор.
– Деда Лукьяна покойного… Дурачок… За ерофеевскими, наверное, увязался. А они не заметили. Нужен им больно…
– Давно здесь… сопли жуёшь?..
Марфусь не ответил. Жался только на лавке. Полено уронил он, их тут с десяток лежало. Одно бездумно держал в руках и водил по дереву пальцами. Что-то бубнил.
Митрофан понял первым, поднялся.
– Так сюда и зови, – сказал он. – Есть сало, есть хлеб. Чайник поставим. Чего ему мёрзнуть? Он гость…
– Вот же… – участливо вздохнул Афанас.
Григорий дошёл до двери́ и выглянул тоже в сени.
Дурачков в деревнях не обижали. Наоборот, дети когда по глупости донимали, дразнили и обзывались, давали сорванцам леща и крутили за это уши. Нечего приставать к тому, кто не может дать сдачи.
– Похоронил-я-их… – произнёс, наконец, Марфусь из сеней, не повернув головы. – Негоже, когда-не-в-земле…
– Это он опять про своих ворон! – пояснил Егор, бывавший в Ерофеевке чаще друзей. – Всё время про них талдычит. Дед Лукьян их к столбу приколачивал…
Вышли в сени вдвоём с Григорием, приподняли Марфуся с лавки за локти и повели внутрь. Дурачок упирался, но шёл. Взмок весь – как сам вышел из бани. Наверное, в снегу успел наваляться, холодный, дрожал. Полена из рук не выпустил.
Когда ж завели на свет, и Егор взглянул на ладони, то поняли вдруг, что бок у Марфуся вымок от крови. Рубаха была изорвана. Где-то скатился и пропорол суком плоть. Грязный и жалкий, шмыгал от холода носом, тёр рукавом лицо. Измазался красным.
Митрофан и Егор его осмотрели. Раздеваться Марфусь не хотел, но за пряник, которого у них не было, уговорили снять рубаху – обманули несмышлёныша, не силой же стягивать. Промыли длинную рану. Неглубокая, просто сильно кровила. Намазать и завязать особо тут было нечем, однако приспособили чистую тряпицу, затянули пояском. Григорий выходил из избы наружу, глянул с крыльца, и сказал, что в такой снег идти не стоило. Да и стемнеет через час-полтора, если не уйдут снежные тучи. Кто ж знал, что лыжи в пору брать в мае месяце, когда к делянке поднимутся. Утром, с рассветом, как-нибудь спустятся, не замёрзнут.
Повечеряли остатками гостинца, и ждали темноты – завалиться спасть. Как ерофеевские дурачка своего проглядели? В голове не укладывалось…
– Похоронил… – хлипал носом Марфусь, лёжа у горячей печки на старой фуфайке – ему собрали всё самое тёплое, что нашли. – В-землю-уложил – как-дóлжно…
Григорий и Афанас засопели сразу. Дурачок ещё долго ворочался, пыхтел на полу. Полено берёзовое спать уложил с собой. Егор почти задремал и видел, как Митрофан всё сидит за столом. Вроде нашёл в избе иглы и нить, взялся за починку рубахи Марфуся. Встал затем со скамьи, подошёл к нему и присел, повернул к себе. Дурачок заворчал недовольно, но рану свою показал. Митроня поднёс керосинку – светил ему на руку, на спину, на бок. Потом вдруг засобирался и начал натягивать сапоги.
Проснулся он будто сразу. Только провалился – а Митрафан уже навис над ним. В бороду налипло снега и веяло холодом, видно, что выходил из избы.
– Пойдём-ка за мной… Оденься…
Спросонья Егор удивиться не успел. Молча окинул взглядом спящих, вздохнул. Григорий уже храпел, притих и их дурачок, обнявшись с поленом. Нечего делать, поднялся и быстро обулся, пока Митрофан ждал за дверью. За оконцем смеркалось, и снег вроде унялся. Вышел следом за другом.
– Чего ты, Митроня? – спросил недовольно в сенях.
Много ж бывало раз, когда снег начинался вот так внезапно, в мае. Но что б намело его столько и лежали сугробы, на памяти не отложилось. От земли веяло холодом. Да и какой земли? Нигде она не проглядывала.
– У него рядом с раной ещё вдоль полоска, – сразу сказал Митрофан про Марфуся. – Я не увидел сперва. Но по рубахе понял – не сам дурачок зацепился. На ней вообще три следа. Второй коготь по шкуре чуть чиркнул. Третий не достал, увяз в рукаве. ЗВЕРЬ лапой задел легонько, не сук…
– Чего? – не поверил Егор, до конца не проснувшись даже от холода. – Какой зверь?..
– Вот сам и смотри! – голосом уже встормошил его Митрофан. – Ты ж вроде по следу лучше? Избý я обошёл – припорошено. Но видел две ямки. Марфусь оттуда приплюхал, вон – куда ерофеевских след уводит. Обратно за ними не поспешил…
– Откуда знаешь, что с ними сюда увязался?..
– А с кем же ещё?! – начинал уже злиться Митроня. – И ты сам сказал…
Сказал. Нечего, правда, ему одному было тут шляться. Большую часть времени дурачок бродил по деревне, заглядывал во дворы. Кто чем угостит, кто что-то расскажет. Иногда далеко уходил за охотниками, но, когда его замечали, вертали сразу обратно – водилось за ним такое, хвостиком за людьми пристраивался. Не было больши́х забот и хозяйства. А скучают без дела даже дурни. Не всё же на дудке свистеть и болтаться на «вороньем» столбе…
Мысль о медведе явилась первой. Только видел Егор "медвежьи" раны – не такие они. У деда, охотника, изрубцованы были весь бок и спина, часто просил показать его в детстве. Да и коли напал, не отпустил бы мишка с царапиной, рвал бы хорошо, живыми ноги уносят только счастливчики. Тут вспорото тонко – как острым сучком от обломленной ветки. Без яркого света не разглядели, да и не думал о звере никто, рану сразу промыли и накормили Марфуся. Ан, Митрофан глазастый. Спьянел меньше других, и за починкой рубахи всё рассмотрел. Кто мог ходить тут? Делянке два года, и место давно обжитое, в такие зверь не суётся, тайги что ли мало? Не нужен ему человеческий угол.
Вмятинки на снегу, на которые указал Митрофан, похожи были на след. Занесённый. Только их оказалось не две, а гораздо больше – засыпало хлопьями, в глаза не бросалось. Как будто нарочно делал круги, выведывал и принюхивался, для дикого зверя уж больно смело. Митроня, их богатырь, следопытом не был, и даже Егор не сразу понял, как много о своём пребывании оставил тут натоптавший.
Он опустил вниз ладонь – ямки, и бугорки от выброса. Немного расчистил. След свежий, как раз за столом сидели, когда ушли ерофеевские. Сами же – разохотились до баловства, ржали над рассказанным, пили принесённый самогон и ели хлеб. В сени к ним Марфусь пробрался бесшумно. Скромен был дурачок, сел на скамью и не стал беспокоить, всё бормотал про своих ворон: тихонечко, чтобы не слышали. Где-то недалеко от избы его зацепили – сюда и пришёл, не поплёлся назад в деревню. Наверное, и не смог бы – в пургу б заблудился, как Афанас в прошлом году, у лагеря. Только зверь позволил уйти: подрал лишь немного – один скользящий удар. Почему?..
Длинной вереницей шаги у избы тянулись по кругу, то приближаясь к ней, то отходя от бревенчатых стенок в сторону. Однако откуда пришли изначально – неясно. Выйти бы раньше, воздух так быстро промёрз и небо прохудилось, что за каких-то полдня весна сменилась зимой, её зелёное покрывало побелело. Вот и опять западал снежок, тихо кружился над головой, как одуванчики возле речки. Те выползали сначала жёлтыми, раздвигали настырными головками гальку и распускались. Затем, вызревая, пушились. И зонтики их летали, таскаемые почти недвижимым воздухом, лёгкие и невесомые как снежинки.
Митрофан ходил за Егором. Только сейчас он заметил в руках у него топор – Митроня поигрывал им и целил глазами по сторонам. Вздыхал. Вокруг быстро темнело.
– Ну?.. Что?.. – спросил он нетерпеливо.
– Сам знаешь, чей след округлый…
– Да знаю… Но здесь-то откуда?.. Не видели уж сколько лет…
Ответить было нечего. Медведь ещё мог забрести, зверь смелый и сильный, иной раз дорогу не уступит, или залезет сдуру пошвыряться в сараях, когда нет людей. А тут же…
– Горя, постой-ка… – тихо вдруг сказал Митрофан. Задрал голову выше и начал пятиться. Отошёл задом шагов на пять и так же, с поднятым вверх подбородком, остановился. Егор тут же встал. Быстро примкнул к товарищу. Оба теперь стояли лицом к избе и смотрели вверх.
Крыша, двускатная, но довольно плоская, успела покрыться снегом. Градус всё же стоял не минусовой – с неё подкапывало. Хорошо протопили печь, за ночь растает. Однако если внизу след был завален, то наверху он виделся лучше. Чётко прошла вдоль конька и где-то спрыгнула.
Затем обогнули избу. Нашли, где забиралась – на брёвнах глубоко отпечатались когти. Вот кто топал на крыше, не снег с веток упал. Как раз – прыжок, когда на конёк залезала. Потом ходила тихо, да и они в избе громко горланили.
– Откуда ж такая любопытная … – дивился вслух Митрофан. – Чего приходила?
– Пришла и ушла, – уже равнодушней пожал плечами Егор, слегка успокоившись. – Марфуся напугалась, ударила – он подошёл к ней сзади, не по ветру. Сыпало, хоть выколи глаз – потому не заметила. Думаю, теперь не вернётся. Всё ж не медведь…
Нашли потом и припорошенный бугорок. Не было тут ничего, когда утром по руслу подня́лись. Митроня задел ногой – и стало всё ясно, разрыли из-под снега. А там, на дне ямки – два тощих тельца. И руки ведь у Марфуся в земле были, но сразу не заподозрили: в чём дурачка обвинять – в том, что испачкался? Детёныши это её. Уж неизвестно, от голода умерли или болезни, однако видно, что не насильно. Их и нашёл сердобольный Марфусь, зарыл, схоронил как своих ворóн. Может, поэтому и напала? Матери иногда возвращаются к месту с трупами. Пришла – а там человеческий след, проследовала за ним; он просто подобрал, а она разъярилась, хоть и боялась. Волки бы нападать не стали. Те берегут себя, намного умнее – важнее потомство в будущем. Даже живых волчат оставляют, когда охотники набредают на логово и начинают копать. Жизнь рода, стаи – важней одного потомства…
– Давай-ка в избý… – предложил Егор.
Задул ветерок. Растрепал бороду Митрофана, водившего желваками и всё вглядывавшегося в лес вокруг. Хлопьями опять повалило. Скоро из-за них и темневшего неба видимость упадёт, нечего больше выискивать. Выяснили всё, и ладно. Не больно-то напугались, ушёл их зверь. Выплеснул ярость, чутка поцарапав Марфуся, походил-побродил, оставил следы, пометил когтями. И больше сюда не вернётся.
– Ладно… – хрустнув костяшками на топорище, сдался Митроня. Бросил последний взгляд в серую чащу, стоявшую снова, как месяц назад, в сугробах. Выдохнул с шумом, вернул за пояс орудие.
Вмести они двинулись к крыльцу. Егор опять завалил могилку и хорошенько примял. Надо бы было подальше от дома трупики бросить, зашвырнуть, но просто вернул их обратно. С утра ведь Марфусь проверит, навязчивость его знали. Ворóн на дворе деда Лукьяна пять раз захоранивал заново – место ему не нравилось, сельчане рассказывали с Ерофеевки. Может, и тут за своё возьмётся. Ему, главное, не мешать, и он успокоится. Во всём остальном безобидным был дурачок, без вредоносных привычек.
«Небо-худится, – во время дождя говорил, – а-кто-потом-зашивает?.. У-Боженьки-есть-иголочка…»
В избе уже не спали – потеряли своих товарищей, тёрли глаза, думали, не пойти ли искать. Лёгкий похмельный сон после гуляния закончился. Даже Марфусь пробудился, когда хлопнула дверь из сеней. Григорий почти оделся, а Афанас кутался в старый дырявый тулуп. Вроде и протопили хорошо, а старенький был домишко, свистело во все щели и дыры.
Быстро всем рассказали, чей видели след. Афанас оживился сразу, тоже потянулся за сапогами.
– За дровами сходить бы на ночь… – сказал он.
– Схожу, – отозвался за всех Митрофан, пощупал топор. Намерился повернуться, однако Григорий остановил.
– Сиди уж, вернулся только. А мы с Афаносом «до ветра». И дров принесём…
Едва за первыми людьми закрылась дверь, тень тихо вышла из-за деревьев. На мягких лапах сделала шаг, и, вперив взгляд в черноту ненавистного дома, остановилась. Метель опять завьюжила, и можно было подкрасться ближе – как ОНА делала уже, пока стоял день, и обитатели дома внутри шумели. Нарочно не выходили к НЕЙ, прятались и боялись. Выглянули ненадолго, и заперлись снова в коробке из брёвен. В горле зародился не рык, а нежное, почти томное урчание. Сбегавшая слюна капнула в снег. Вспыхнули чёрно-жёлтым глаза и сузились в щёлочки, чтобы в сумерках никто их не видел. Ярость внутри лишь разжигалась.
А потом дверь открылась снова, и двое других людей появились снаружи. Шагнули с крыльца и пошли. Вышли в ЕЁ ночь – спускавшуюся стремительно, с крепчавшим в деревьях ветром и вихрями позднего липкого снега…