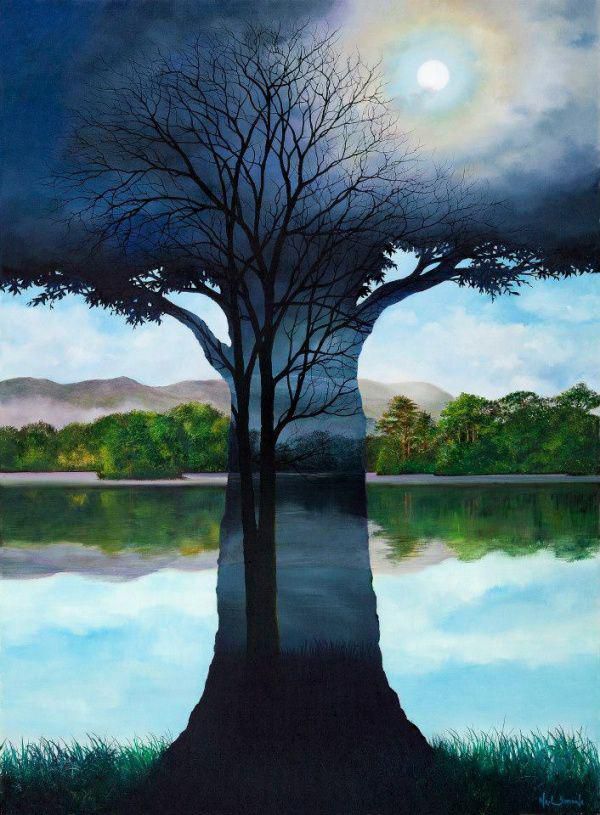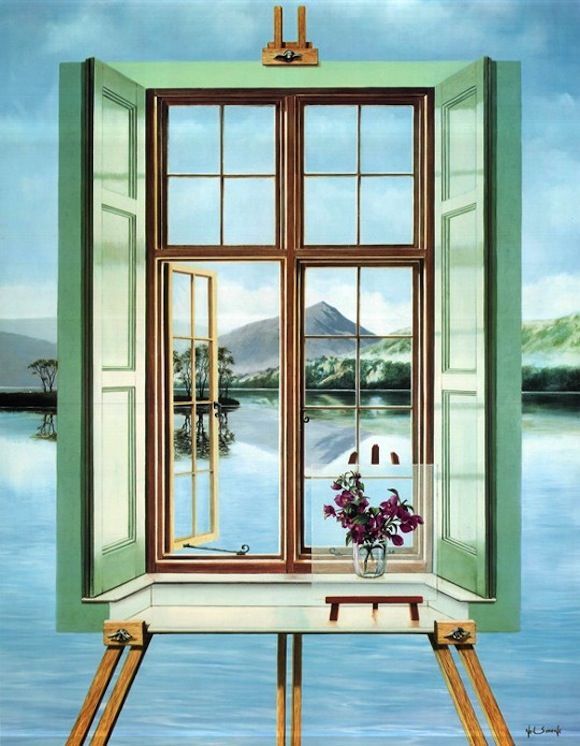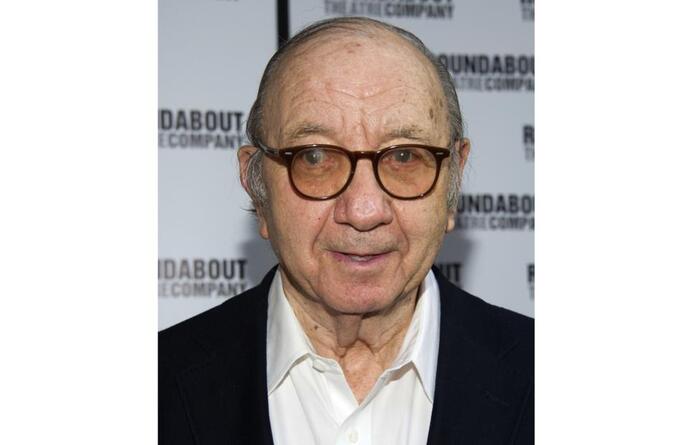День 6. Уличный торговец
В парке было влажно и пахло озоном. Кирилл сидел на лавочке, предварительно подложив под себя куртку. Пачка сигарет в руках нетронута. Купил в ближайшем магазинчике на всякий случай. А курить, нет, он давно не курит. Бросил еще в универе. Накануне последнего экзамена пообещал себе, что если сдаст – откажется от вредной привычки.
Он старался не опираться спиной о лавочку, чтоб на светлой рубашке не осталось мокрых следов. Сразу после работы, забрал Иру из дома родителей, где она временно обитает, и отвез на прием к врачу. Сегодня третий раз, как девушка посещает психолога. Кирилл настоял, зная, что собственными силами не сможет помочь любимой справиться с горем.
Желания сидеть в маленьком душном коридоре рядом с кабинетом специалиста у Кирилла не было. Прихватив с собой кофе в парковом ларьке, он проигнорировал многозначительный взгляд девушки-баристы подающей ему стакан с номером телефона, наспех написанным фломастером, и отправился в уединенный уголок. Скрытый от всех зарослями колючей зелени, Кирилл сидел, согнув спину и глядя прямо перед собой.
Из задумчивости его вывела возня между кустов. Кирилл присмотрелся. Среди колючек и тонких веток, на корточках ползал парень в школьной форме. Заинтересовавшись, Кирилл поднялся, не издавая лишних звуков и осторожно приблизился. Чем ближе он подходил, тем яснее узнавал мальца. Юрка из 7-го Б класса. Обычный парень, смышленый, не отличник, но и не пасет задних.
Мысли преподавателя и так окрашенные в серые тона, стали еще мрачнее. Очевидной причиной подростку шариться по кустам была одна – закладки.
Кирилл приблизился так близко, как только мог, оставаясь незамеченным. Вместе с грозно сказанным: «Ты что тут делаешь?», он выбросил вперед руку, хватая пацана за воротник.
- Айя-яй-яй, - Юрка подскочил и сразу попытался дать деру.
Но Кирилл держал крепко, подтаскивая парня ближе к себе.
- Давай без выкрутасов, - прямо над головой мальчика спокойно сказал учитель.
- Кирилл Сергеевич! – пискнул Юрка, - вы как здесь оказались?
- Важно чем ты тут занимаешься, - Кирилл посмотрел по сторонам, готовый в любой момент отчитаться перед случайными прохожими, почему удерживает ребенка силой.
- Отпустите, - захныкал Юрка.
- Давай так, - Кирилл усадил пацана на лавку и сам сел рядом, не выпуская руку ребенка, - я знаю чем ты занимался. Для тебя же будет лучше, если ты сейчас все мне честно расскажешь.
В глазах мальчика, вытаращенных как у лемура, бегущей строкой читалось: «Дяденька, отпустите меня, просто отпустите и притворитесь, что ничего не видели».
- Я жду, - требовательно повторил Кирилл Сергеевич.
- Мне деньги были нужныыыы, - вдруг завыл Юрка.
Кирилл уже перебирал в памяти все факты, известные ему об этом ученике. Общительный, кажется у них даже своя компашка есть. Посещает спортивные секции, на пед советах его имя ни разу не мелькало. Там были свои звезды, неблагополучные семьи и дети, нуждающиеся в особой поддержке, все были на виду и, так сказать, у школы на карандаше.
- На что тебе так деньги понадобились, что ты решил жизнь себе испортить?
Юра виновато понурил голову.
- На айфон, - еле слышно прошептал себе в подбородок.
- Серьезно? Из-за новой игрушки, чтоб перед друзьями повыпендриваться, в тюрьму решил отправиться?
- Не мне, - еще тише ответил Юрка, - Ане из 7-го А.
Кирилл взглянул на парня по новому. Первым порывом хотелось сказать, что ни одна девчонка не стоит его свободы и жизни. Что прежде всего нужно думать о себе и своем благополучии. Но эти мысли застряли в горле, рисуя перед глазами нежный образ. Если бы Ире срочно нужны были деньги, остановился бы он перед буквой закона или человеческой моралью?
- Так, послушай меня внимательно, - преподаватель взял парня за плечи и развернул к себе лицом, - мы сейчас пойдем в полицию.
Услышав «полиция», Юрка стал бледнее побелки на деревьях.
- Не боись, - Кирилл легонько его встряхнул, - пойдем в полицию и расскажем, что ты пришел ко мне сразу как тебе написали сомнительные личности. Ведь так на тебя вышли, в мессенджере?
Юрка закивал.
- Вот, ты испугался и пришел ко мне за советом. А потом мы вместе отправились в полицию. Ты что-то успел сделать?
Юра еще сильнее замотал головой.
- Нет, я правда испугался.
- Хорошо, переписка осталась?
Траектория махания изменилась: «Да».
- Хорошо, сейчас при мне сделай скрины и пойдем, - Кирилл прикинул, что в запасе у него еще по крайней мере минут 40. Полицейский участок недалеко. Но, зная расторопность правоохранителей, он быстро написал смс Ире, что может задержаться, и пусть, если что, она подождет его в кафешке, куда они обычно ходили на свидания.
На экране телефона Юры появился чат. Рядом с аватаркой ухмыляющегося то ли тролля, то ли гоблина была подпись: «Уличный торговец». Кирилл горько усмехнулся. Торговец смертью, в этот раз тебе не удалось вовлечь в свои сети очередную невинную душу.