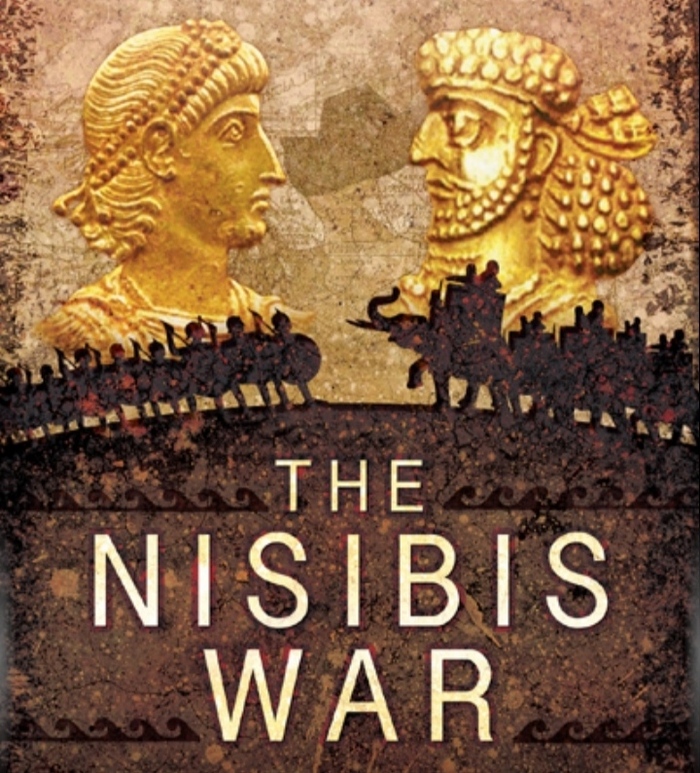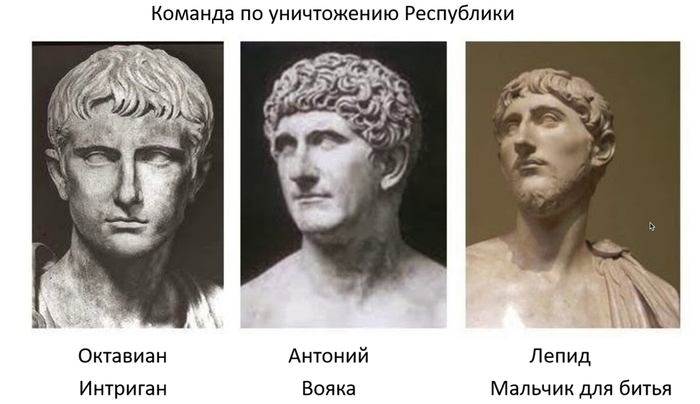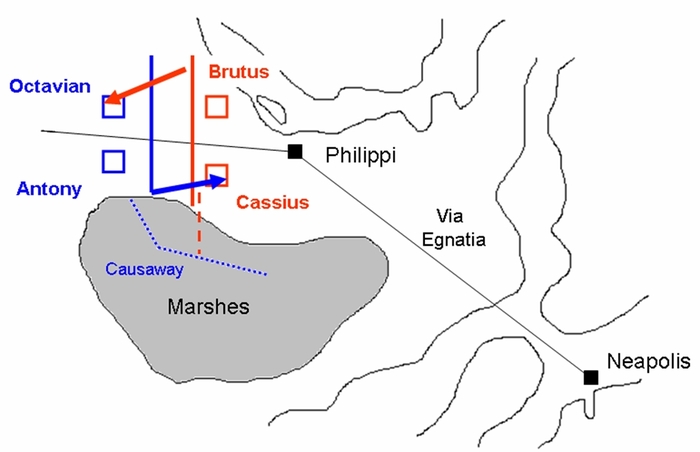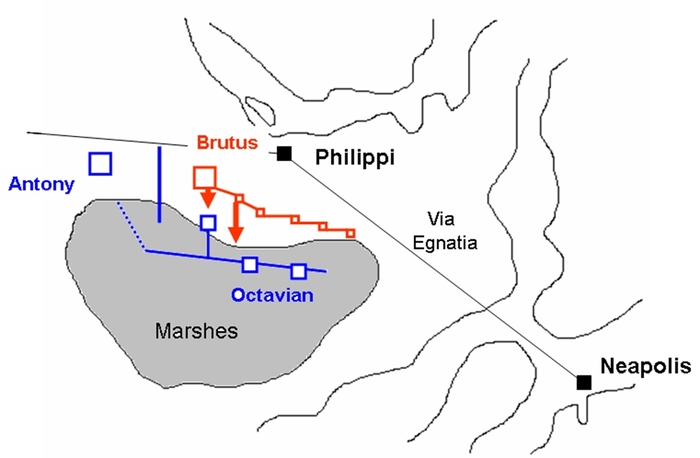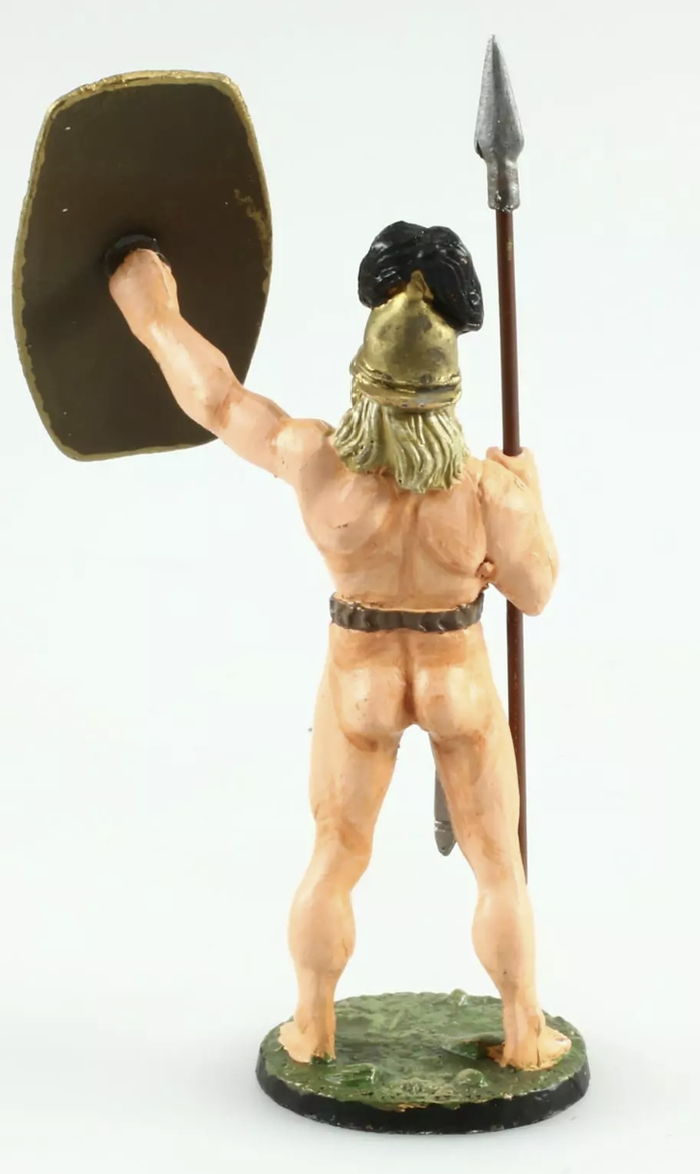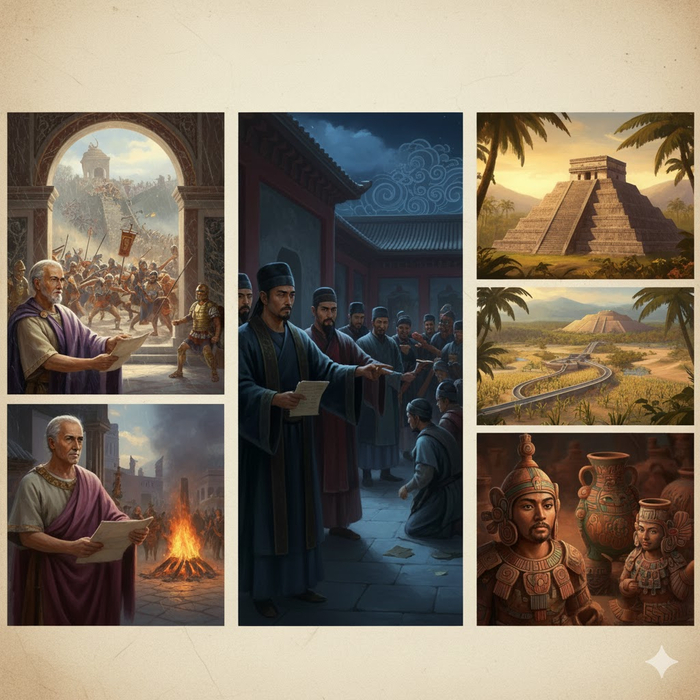"1 сентября 1941 года отправился Юра в первый класс. Даже в тот военный сентябрь мы постарались все-таки отметить такой день. Я с утра пораньше побежала на ферму, а к восьми была уже дома. Провожали Юру братья, Зоя и я. Он шел гордый, в наглаженной матроске, с Зоиным портфелем, в котором лежал аккуратно обернутый в газету его первый учебник — букварь... Но война не давала о себе забыть, ни на минуту. Дни и ночи шли через деревню беженцы. Люди рассказывали, как катится вал нацистских армий, как уничтожают они наши города и деревни, как бомбят мирных граждан. «От Советского Информбюро...» Вести были страшные. Пали Рига, Таллин, Вильнюс, Минск, немцы двигались к Ленинграду, а потом в сводках замелькали и совсем близкие названия - Ельня, Смоленск. В нашу деревню пришли первые «похоронки»...
Однажды мы услышали нарастающий шум мотора. Казалось, что самолет идет прямо на нашу ферму... Это был наш, советский самолет, ясно было, что с ним что-то случилось. Летел он так низко, что казалось - вот-вот врежется в землю. Но он все тянул в сторону от построек, а потом упал недалеко от нашей избы. Пришла домой — младших нет, сразу догадалась - побежали к самолету. А тут в небе показался еще один наш самолет, он сделал круг, другой и приземлился на сухом твердом пригорке. Чуть спустя прибежал Юра. Глаза горят от возбуждения, хочет поскорее мне все рассказать, сбивается. Но я все-таки поняла. Первому летчику удалось выпрыгнуть из кабины над самой землей. Он даже не поранился. Ругался на гитлеровцев, грозил им. Подбежал летчик с другого самолета. Они расстегнули плоские кожаные сумки, а там карты.
Юра пересказывал каждую мелочь, передавал каждое движение, все время повторял слово «летчик»: «Летчик спросил: «Как ваша деревня называется?» Летчик сказал: «Ну гады, ну заплатите!» Потом удивился: «Вы почему с портфелями?» И сказал: «Молодцы! Надо учиться!» Летчик расстегнул кожаную куртку, а на гимнастерке у него — орден. Летчики — герои. А орден называется — Боевого красного знамени. А еще он мне дал подержать кожаную сумку. Она планшеткой зовется. Мама, вырасту — тоже буду летчиком!»
— Будешь, будешь! — говорила я ему, а тем временем поставила в кошелку крынку молока и положила хлеб.
— Отнеси им, сынок! Да пригласи в дом.
Но летчики не покинули свои машины. Дотемна не возвращались и ребятишки. Только поздно ночью пришли они домой. Юра все повторял фамилию, которую назвал ему первый летчик. В ту сентябрьскую ночь летчики остались у боевых машин, а утром мы услышали рев взлетевшего с пригорка самолета...
Фронт приближался... Пала Вязьма. Через нашу деревню ехали колонны грузовиков — везли раненых. Шли наши войска. Красноармейцы были усталые, измученные. Мы смотрели на них и плакали, а они головы не поднимали... Память возвращает в те дни, когда нацисты пришли на нашу землю... Пушки грохотали где-то совсем рядом. Мы с Алексеем Ивановичем собрали всех ребятишек в одной комнате — опасались, как бы не выскочили, не угодили под шальную пулю, осколок. Наступил вечер, а наутро к нам вошли немцы. Они врывались в дома, везде шарили, кричали:
— Где партизаны?
Партизан не находили, а вот вещи утаскивали, хватали кур, гусей, еду. Через три - четыре часа в доме не осталось ничего. Последний каравай я спрятала для ребятишек, но высокий немец по запаху нашел и его на печке.
Фронт перекатился через нас. Артиллерийская канонада гремела рядом. Мы слушали, надеялись, что нас освободят. Но проходили дни. Красная Армия не возвращалась.
В один из первых дней оккупации вбежал в дом Юра:
— Пожар! Школа горит!
Алексей Иванович схватил ведра, только выбежал из дома, как в центре деревни послышались автоматные очереди. Стало ясно: гитлеровцы подожгли школу, теперь не подпускают жителей тушить огонь. Муж вернулся в избу, сел на лавку, в тишине звякнула дужка ведра.
Ночью в избе слышались детские всхлипывания. Что сказать? Как успокоить? Мы старались узнать, как обстоят дела на фронте... Газет, естественно, не было, радио молчало. Мы оставались «под немцами» долгих полтора года. Каждый из этих дней оставил тяжелую отметину на сердце. Фронт был рядом, в нескольких километрах от Клушина, но мы были где-то за чертой нормальной жизни.
Советские люди нынешних мирных дней, которые родились после победного сорок пятого, конечно, много читали, много знают о войне, о героизме воинов, отстоявших независимость нашей страны, о том, как самоотверженно трудились рабочие и крестьяне для фронта, во имя победы, о бессонных ночах у станков, о труде на полях. Знают много. Но невозможно полно представить весь ужас вражеского нашествия, то время, когда мы находились во власти жестокого, бесчеловечного врага, когда каждый день речь шла о жизни и смерти. Едва наступило лето сорок второго, прибывшие на постой гитлеровцы повыгоняли все население нашей деревни из их домов. Алексей Иванович вырыл на огороде землянку, которая и спасала нас все дальнейшее время оккупации. К нам в землянку перебралась из соседнего дома Анна Григорьевна Сидорова.
— В тесноте, да не в обиде! — ответил Алексей Иванович на ее просьбу.
Гитлеровцы, узнав от кого-то, что Алексей Иванович работал мельником, приказали наладить помол, но он придумал какую-то неисправность. На другой день его вызвали к коменданту. Вернулся через час, подошел и встал рядом со мной. Глянула я на него и не узнала. Непохожее какое-то лицо, глаза потухшие.
— Алешенька? Что? Что они сделали с тобой?
Он даже не сразу ответил. Видела я — с силами собирается.
— Нюра! Меня... меня пороли.
— Больно? — спрашиваю.
Он головой из стороны в сторону покрутил, а ответить не может, в горле клекот, как крик...
Однажды вернулся он в землянку, быстро разделся, лег на нары.
— Если что - я со вчерашнего дня занемог. Ребятам скажи,— предупредил он.
А следом в землянку ребятишки прибежали:
— Мельница горит! Пожар!
Я их предупредила, подождала, когда убегут, — и к Алеше:
— Чего ты наделал?!
— Нюра, она от искры загорелась. Ты не беспокойся. От искры. Ни меня, ни моториста ни одна живая душа не видела.
Жить или умереть. Нет, не только об этом шла речь в то время. В дни, когда гадали, как раздобыть кусок хлеба, миску ржи, чугунок картошки, мы не имели права думать только о том, как бы выжить. У нас были дети, мы беспокоились, какими они останутся после оккупации — не сломятся ли, не станут ли трусоватыми и забитыми. Конечно, сейчас та забота складывается в четкие слова. Тогда было труднее. Было ощущение, что ты должен что-то сделать еще, кроме того, чтобы остаться в живых... Мы старались быть примером для наших детей... И уже после освобождения Юра да Борис поделились, что они вместе с другими ребятами старались вредить гитлеровцам: разбрасывали по дорогам старые гвозди, битые бутылки, в выхлопные трубы их машин заталкивали камни и куски глины.
Фронт был все еще близко. Канонада грохотала, то отдаляясь, то приближаясь. Теперь в Клушине стояла эсэсовская часть. Наш дом снова занял нацист. Он заряжал аккумуляторы для автомашин. На досуге любил "развлекаться". То на глазах у голодных ребят скармливал собаке консервы, то начинал стрелять по кошкам, то принимался рубить деревья в саду. Детей наших он ненавидел. Как-то маленький Боря подошел к его мастерской из любопытства, а он схватил его за шарфик, повязанный вокруг шеи, и за этот шарф подвесил. Видевший это Юра, прибежал в землянку с криками. Я кинулась к Боре. На дереве висел мой младшенький, а рядом, уперев руки в бока, закатывался от смеха нацист. Я подлетела к яблоне, подхватила Бореньку на руки. Ну, думаю, если этот немец проклятый воспрепятствует, то лопатой его зарублю! Пусть потом будет, что будет. Не знаю, какое у меня лицо было, только он глянул на меня, повернулся, в дом и зашагал — сделал вид, что его кто-то окликнул.
Раздели мы с Юрой Бореньку, уложили на нары, стали растирать, смотрим — порозовел, глаза приоткрыл. Когда он в себя пришел, я увидела, что с Юрой творится неладное. Стоит, кулачки сжал, глаза прищурил. Я испугалась. Подошла, на коленки к себе сына посадила, по голове глажу, успокаиваю:
— Он же нарочно делает, чтобы над тобой тоже поиздеваться, чтобы за пустяк убить. Нет, Юра, мы ему такую радость не доставим!
Думала, убедила сыночка. Прошло несколько дней, слышу, этот немец с мотоциклом своим возится, завести не может. Вышла из землянки, наблюдаю издалека. А уж когда он из выхлопной трубы мусор какой-то выковырял, сразу же поняла. Тот ругнулся, к нам зашагал. Я к нему навстречу пошла, он мне на ломаном русском и говорит:
— Передай твой щенок, чтобы мне на глаза не попадаться.
На большее не решился. Фронт тогда уже дрогнул, артиллерийская канонада не умолкала. Всем было ясно, что нацистам здесь долго не продержаться... Несколько дней Юра не ночевал в землянке — устроила я его у соседей, подальше от ненавистного немца. Когда Юра вернулся, я все наказывала ему:
— Не подходи ты к немцам. Держись подальше! Да и за братом следи.
Я все старалась спрятать под крылышко младших, непослушных. А беда пришла с другой стороны. 18 февраля 1943 года поутру раздался стук прикладом в дверь нашей землянки. Я открыла. Гитлеровец, остановившись на пороге, обвел вокруг взглядом, глаза его задержались на Валентине:
— Одевайся, выходи!
Я попыталась протестовать, но он замахнулся на меня автоматом:
— Шнель, шнель! Быстрее! Германия ждет!
Автоматчики согнали на площадь молодых парней, построили, окружили и повели. Угоняли в неизвестность, в неволю. Как разрывалось тогда мое сердце!
Мы считали денечки - где же, где наши? Немцы отходили. Вот уже и из домов съехали. Мы вошли в свою избу. Грязь, погром. Стали с Зоей дом мыть, от нацистов вымывать. А по деревне новые слухи - собираются угонять девушек. Зоя моет пол и плачет:
— Может, — говорит, — последний раз дом в порядок привожу.
Успокаиваю, что ее не возьмут, больно маленькая. Хочу верить своим словам, и не верю. Действительно, через пять дней после угона Валентина снова стук в дверь. Немец внимательно всех оглядел, в Зоину сторону пальцем ткнул:
— Девошка! На плошат! Одевайся.
Я к нему:
— Посмотрите, она же маленькая. Толк какой с нее? Оставьте!
Немец даже не глянул на меня, через мою голову Зое говорит:
— Ждать не буду! Ну!
Зоя платок повязала, шубейку натянула, сунула ноги в валенки. Я на колени хотела перед немцем броситься, а она ко мне кинулась, не дает:
— Мамочка! Не надо! Мамочка! Не поможет! Мамочка, не унижайся!
К мальчишкам, отцу обернулась:
— Берегите маму! Маму берегите! — глаза у нее сухие, не плачет, только дрожит вся: — Прощайте!
Выбежала я вслед за ней — гляжу: из всех домов девушек и совсем молоденьких девчонок выгоняют. Шла я за колонной наших девушек до околицы. А там на нас, матерей, немцы автоматы направили, не пустили дальше. Стояла я, глядела вслед удалявшейся колонне. Не помню, как домой добрела. Сына забрали — было тяжело, а дочку увели — стало вовсе нестерпимо. Какие только мысли в голове не появлялись! Пятнадцатилетняя девочка, да в неволе, в полной власти нацистов, у которых человеческих понятий-то нету совсем...
До освобождения оставалось всего несколько дней, нарастал гул боев. Через деревню потянулись отступавшие части гитлеровцев. Теперь это были уже не те нахальные мерзавцы, которые полтора года назад входили в нашу деревню. Одеты они были в тряпье с грязными повязками и с обмороженными лицами. Но мы-то знали, что они еще на многие мерзости способны... Вскоре в нашу деревню вошли части родной Красной армии. Какой это был праздник! Все, кто остался жив, вышли на улицу, кричали «ура», звали красноармейцев в избы. А какие у всех были веселые глаза!
Еще грохотали близкие бои, а в деревне возрождалась наша, советская жизнь. Пора было думать об урожае. Командир части, расположившейся в нашей деревне, распорядился, чтобы саперы осмотрели поля, очистили их от мин, неразорвавшихся снарядов. Собрались мы, посчитали свои силы... Грустные это были смотрины: мужики на фронте, молодых парней и девушек нацисты угнали в Германию. Но что делать - трудиться надо. От хлебороба жизнь зависит... Радость освобождения переплеталась с горестями. Не было большей беды, чем утрата родных. Тревога от незнания судьбы угнанных детей была как рана. Только при виде младших я чуть успокаивалась, не то что забывала о судьбе старших, но хоть думать о делах могла. А едва оставалась одна — тяжесть опять наваливалась, теснило сердце...
Но вот наконец почтальонша принесла сложенный треугольником листок бумаги — письмо от Валентина и я узнала, что он сумел бежать из плена и перейти линию фронта. Он стал танкистом, башенным стрелком. А следом и новое сообщение — от Зои. Ей тоже удалось вырваться из неволи. Она тоже стала помогать Красной армии. Поскольку годами не вышла, в действующие на переднем крае части ее не записали, тогда она пошла в ветеринарный военный госпиталь. «Мне очень пригодились мои деревенские знания, — писала дочка. — Я ухаживаю за ранеными лошадьми. Мы возвращаем их в строй, чтобы наши кавалеристы могли громить нацистов, могли отплатить за горе советских людей».
А.Т. Гагарина, "Память сердца".