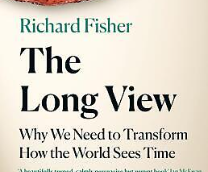
Долгий взгляд
3 поста
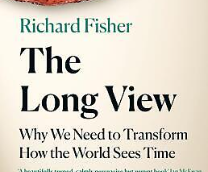
3 поста
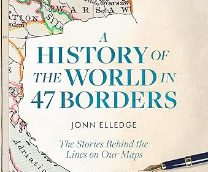
3 поста
18 постов
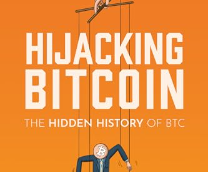
4 поста
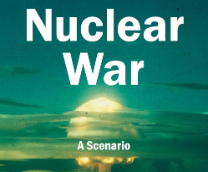
2 поста
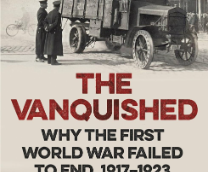
8 постов
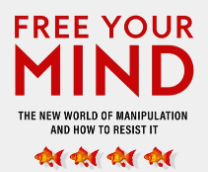
5 постов
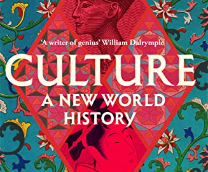
5 постов
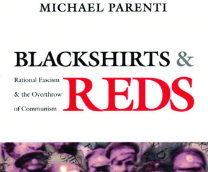
5 постов
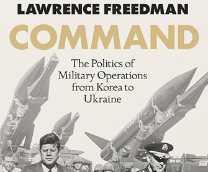
13 постов

2 поста
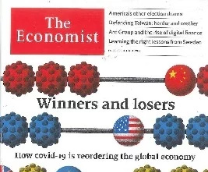
15 постов
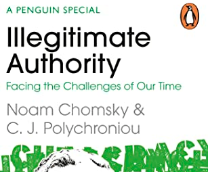
2 поста
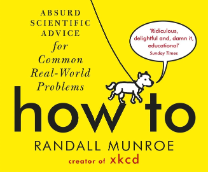
2 поста
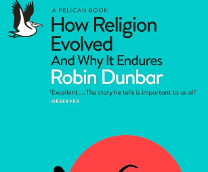
4 поста
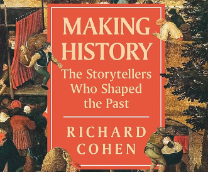
3 поста
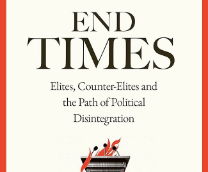
4 поста
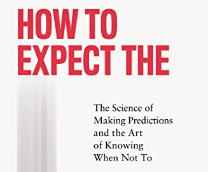
4 поста
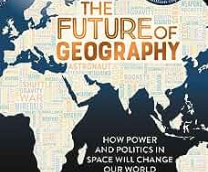
3 поста
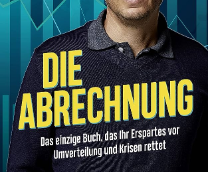
3 поста
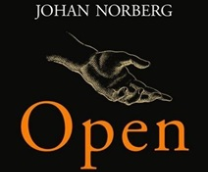
8 постов
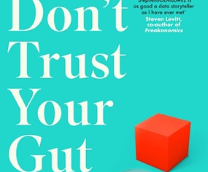
9 постов
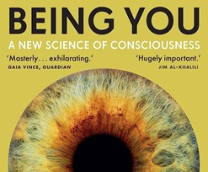
4 поста
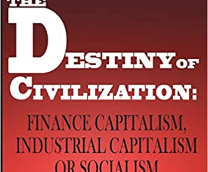
7 постов
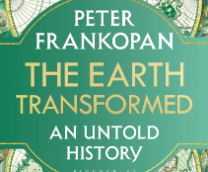
11 постов
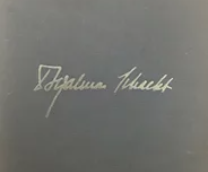
3 поста

3 поста
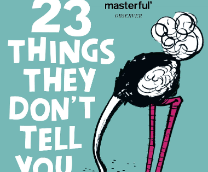
6 постов
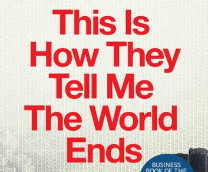
6 постов
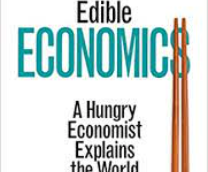
5 постов
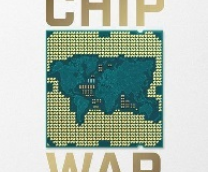
9 постов
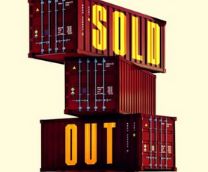
2 поста
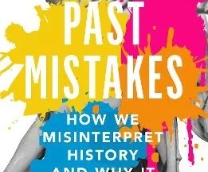
8 постов
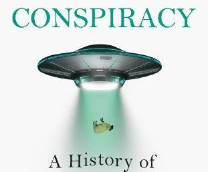
4 поста
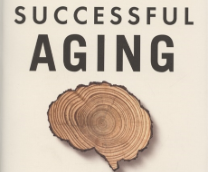
5 постов
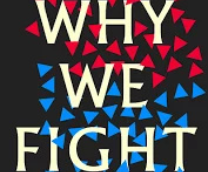
4 поста
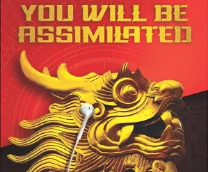
4 поста
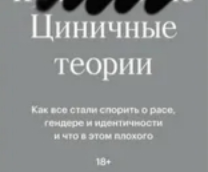
2 поста

2 поста
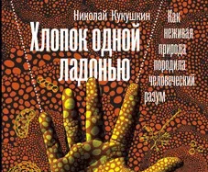
2 поста
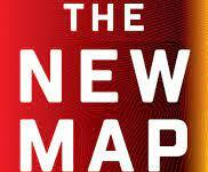
6 постов
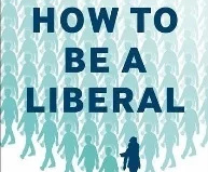
5 постов
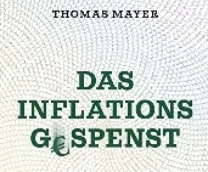
6 постов
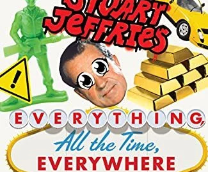
3 поста
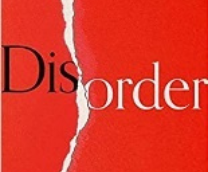
3 поста
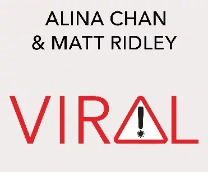
6 постов
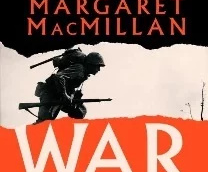
8 постов
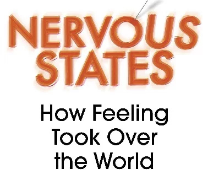
4 поста
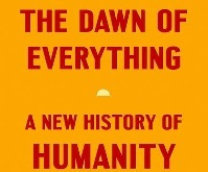
7 постов
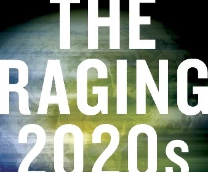
6 постов
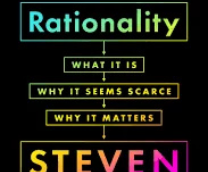
3 поста
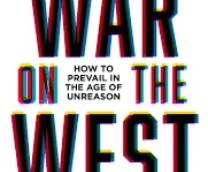
4 поста
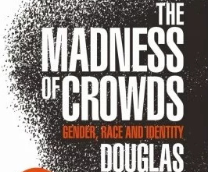
4 поста
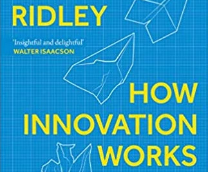
3 поста
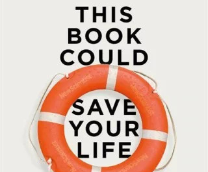
4 поста
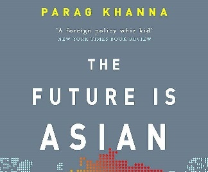
2 поста
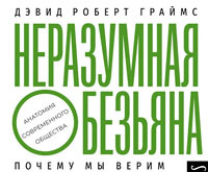
6 постов
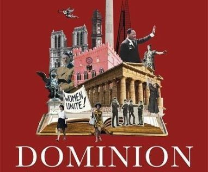
7 постов
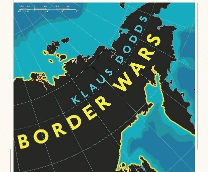
4 поста

4 поста
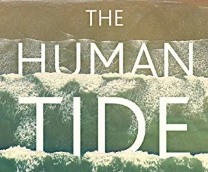
3 поста
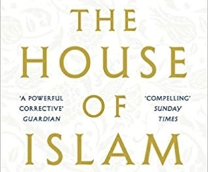
2 поста
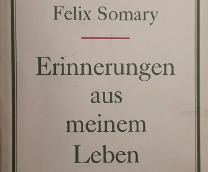
3 поста
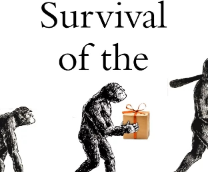
3 поста
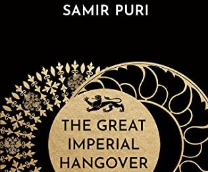
4 поста
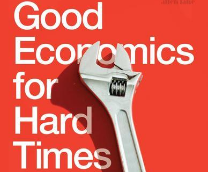
3 поста
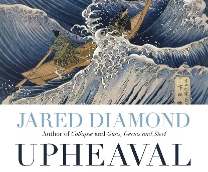
3 поста
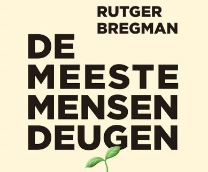
3 поста
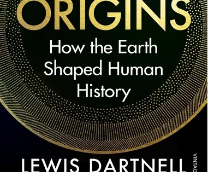
4 поста
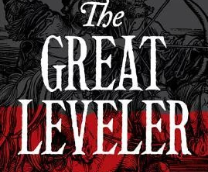
4 поста
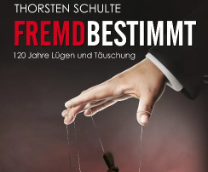
3 поста
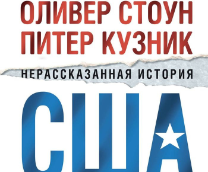
3 поста
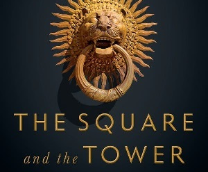
5 постов
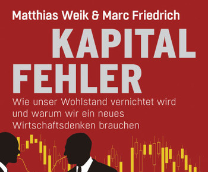
7 постов
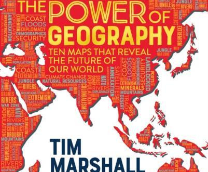
5 постов
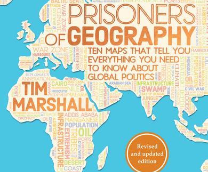
5 постов
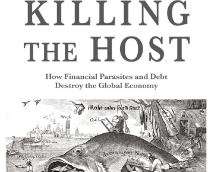
5 постов
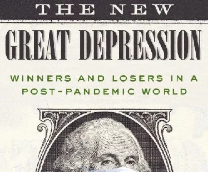
4 поста
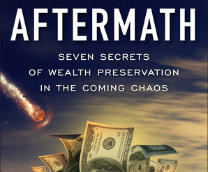
3 поста
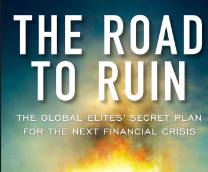
1 пост
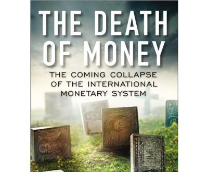
11 постов
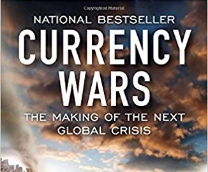
9 постов
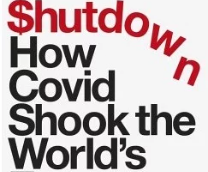
4 поста
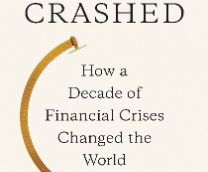
6 постов
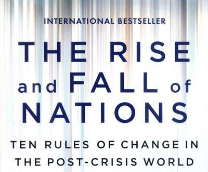
11 постов
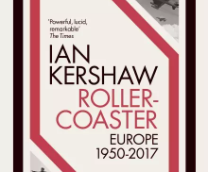
8 постов
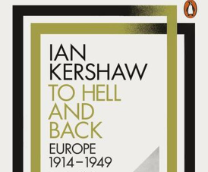
10 постов
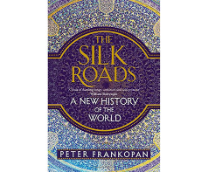
2 поста
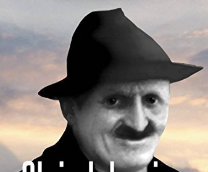
21 пост
За пять лет на Пикабу у меня накопилось столько книжных обзоров, что пришлось привести их в порядок. Найдёте что-нибудь для себя - читайте на здоровье. Надеюсь, вам понравится.
Франкопан. Шёлковые пути. История Азии в контексте связи культур и народов.
Франкопан. Новые шёлковые пути. Куда идёт Азия сегодня.
Франкопан. Преображённая Земля. История планеты в экологическом контексте.
Кершоу. В ад и обратно. Европа в двух мировых войнах глазами британского историка.
Кершоу. Американские горки. Европа в послевоенную эпоху глазами британского историка.
Туз. Рухнувшее. Подробная и, на мой взгляд, непревзойдённая история экономического кризиса 2008 года с рассмотрением причин и последствий.
Туз. Останов. История коронавирусной пандемии под экономическим углом зрения.
Рудлинг. Взлёт и падение белорусского национализма. Увлекательное повествование о рождении белорусской рации. Много нового, неожиданного.
Фергюсон. Площадь и башня. Вечный конфликт ратуши и улицы: из прошлого в будущее. Модный историк продолжает зарабатывать деньги.
Стоун, Кузник. Нерасказанная история США. Оливер Стоун и Питер Кузник дают критический обзор внешней политики США за последние десятилетия. Тут есть над чем поразмыслить. Такой взгляд просто необходим. Если что - это не я сказал, а Горбачёв.
Лебор. Базельская башня. Увлекательная история Банка Международных Расчётов, специализирующегося на скрытных финансовых манипуляциях центробанков.
Дартнелл. Первоистоки. Как внешние обстоятельства планеты обитания сформировали прошлое, настоящее и будущее Homo sapiens.
Даймонд. Переворот. Попытка анализа кризисных ситуаций, в которые попадали разные страны. Разумеется, не без обобщений и рецептов на будущее.
Холланд. Доминион. История формирования западного мировоззрения, начиная с античных времён. Идеи, которыми гордятся европейцы, не возникли в одночасье. Они выросли на навозе христианства. Хотите заглянуть в душу европейцу - почитайте апостола Павла.
Гребер, Уэнгроу. Начало всего. Последняя книга Дэвида Гребера, знаменитого антрополога и анархиста. Глубокий взгляд в историю человечества с целью донести до нас мысль о том, что человек был способен сказать "нет" иерархиям и и просто жить, опираясь на сотрудничество с равными.
Томпсон. Беспорядок. Финансы, энергетика, политика - глубокий анализ недавнего прошлого цивилизации. Как мы пришли туда, где находимся сейчас.
Дант. Как быть либералом. История либерального мировоззрения. Почему либерализм сегодня в кризисе и как этот кризис преодолеть.
Маунтин. Прошлые ошибки. Разбор нескольких исторических мифов и мистификаций. Не без политики, но в меру. Автор изучал национализм и хорошо разбирается в вопросе.
Миллер. Микросхемная война. Обзор индустрии микроэлектроники с момента её появления и до сегодняшних дней. Рост и падение гигантов, шансы на будущее - очень толковая книга, написанная знакомым с "нужными" людьми неспециалистом.
Перлрот. Так кончится этот мир. Кибертерроризм и всё, что с ним связано. Попытка взглянуть на малопрозрачный мир эксплойтов, атак и кибершпионажа. Написано журналюгой "Нью-Йорк Таймс", и этим всё сказано.
Чанг. 23 вещи. Разбор кучи вещей, о которых у обывателя порой неправильное мнение. Развенчиваются популярные мифы. Автор раскрывает глаза на суть современного капитализма.
Чанг. Как работает экономика. Популярное изложение главных школ современной экономической мысли. Непредвзято.
Чанг. Съедобная экономика. На примере разной еды обсуждаются важные экономические вещи. Много познавательного и пищи для ума.
Шарма. Взлёты и падения. Попытка оценить будущее ведущих экономик мира при помощи оригинальных критериев автора.
Рикардс. Валютные войны. Обзор финансовых военных действий, начиная с Великой Депрессии. Мировой бестселлер.
Рикардс. Смерть денег. Что не так в мировых финансах и чем это нам грозит.
Рикардс. Дорога к краху. Скоро (в 2018 году) грянет страшный кризис или так дальше жить нельзя.
Рикардс. Последствия. Как будет протекать и чем закончится экономический Армагеддон. И, конечно, как пережить его с наименьшими потерями.
Рикардс. Новая Великая Депрессия. Ух! Коронавирус! Годная критика мер по борьбе с пандемией, предположение об искусственном происхождении вируса, а также попытка предсказать последствия для экономики (см. название книги).
Рикардс. Распродано. Мировая логистика пытается выдержать удары, не разваливаясь. На волне перебоев с поставками автор в очередной раз пророчит кризис.
Хадсон. Убивая носителя. Анализ мировой экономики с точки зрения критика финансового капитализма. Всему виной паразиты, которые жонглируют финансами, страховками и недвижимостью. Надо бы их прижучить и раскулачить.
Хадсон. Судьба цивилизации. Серия лекций с описанием исторических сложившихся современных схем эксплуатации, мешающих развиваться мировой экономике. Есть рецепты по изменению ситуации.
Вейк, Фридрих. Капитальные ошибки. Описание сути современной экономической системы с предложениями по исправлению ситуации (спойлер: нужно перестроить финансы).
Кригер. Денежный базар. Старая, но интересная книга о работе мировых финансовых рынков, написанная известным валютным спекулянтом. Исторические экскурсы о том, как объединились рынки капиталов.
Шайдель. Великий уравнитель. Мировое неравенство и что на его влияет. Прогноз неутешительный: уменьшается оно как правило после войн и катастроф разного рода, но не в результате реформ.
Банерджи, Дюфло. Хорошая экономика для трудных времён. Типично левый анализ мировой экономики от нобелевского лауреата с типично левыми предложениями по её улучшению. Обложим всех паразитов налогами, и наступит благоденствие.
Майер. Призрак инфляции. История денег и их непрестанного обесценивания. Нас тоже не минёт чаша сия. Взгляд экономиста австрийской школы.
Маршалл. Узники географии. Десять карт, рассказывающие всё, что нужно знать о глобальной политике.
Маршалл. Сила географии. Десять карт, раскрывающие будущее мира. По следам успеха первой книги, но тоже годно.
Шульте. Под внешним влиянием. Как Германия страдает под американской пятой. Немцам не стоит стесняться своего прошлого. Залог процветания - дружба с Россией.
Баллог. Страна денег. Офшоры, олигархи и тому подобное. Как ведутся тёмные делишки мировой экономики.
Пури. Великое имперское похмелье. Рассказ о величайших империях мира с приложением к современной ситуации.
Вагенкнехт. Самоуверенные. Что мы имеем сегодня в лагере левых и как выйти из этой незавидной ситуации.
Доддз. Пограничные войны. Границы и всё, что с ними связано в контексте геополитики.
Ханна. Будущее принадлежит Азии. Оглянитесь - и увидите: иного и быть не может. Азиаты уже догнали Европу и не собираются останавливаться на достигнутом.
Мюррей. Безумие толпы. Точно и ясно о "повесточке" с гендером, расами и прочим. Кто-то должен был это написать, и одним из первых был Мюррей.
Мюррей. Война против Запада. Как современные борцы за равноправие рушат страны, их вскормившие.
Ричел. Вскрытие пандемии. Как мировые политики под предлогом борьбы с коронавирусом проворачивают свои делишки, а коронаскептики не верят в очевидные вещи.
Росс. Неистовые двадцатые. Нехорошая ситуация сложилась на Западе и в целом в мире. Надо что-то делать, иначе будет ой-ой-ой. Традиционные левые рецепты по обузданию мировой олигархии. Удивительно, но этот человек работал на Хиллари Клинтон.
Дэвис. Нервные состояния. Одна из книг, написать которую заставили победы популистов (Брекзит, Трамп). Как они добиваются успеха и как им противостоять (их же оружием: разжигать страсти).
Ергин. Новая карта. Недавняя история геополитических событий с упором на энергию и энергоносители. Какие вызовы стоят перед нами и какими инновациями мы можем воспользоваться.
Плакроуз, Линдси. Циничные теории. Подробный обзор новомодных левацких течений, начиная с постколониалистов и кончая трансгендерами. Их мир надо знать, чтобы уметь ответить.
Голдман. Вас ассимилируют. Как Китай собирается без единого выстрела завоевать мир. Автор знает, о чём пишет и заставляет задуматься.
Блэттман. Почему мы дерёмся. Война - очень плохая вещь, но снова и снова их развязывают. Почему? Потому что стремятся получить больше, чем потеряют. А потом оказывается, что не так это просто, как казалось. Но назад дороги нет, и приходится искать дорогу к миру. Находят не все и далеко не сразу.
Эял. Бунты. Хорошая ж вещь - глобализация, или? Надо просто исправить то плохое, что в ней есть. Взгляд из Израиля.
Брегман. Утопия для реалистов. К чему стоило бы стремиться современному человеку. Идеи из левого лагеря.
Брегман. Добрые внутри. Каков человек по природе - добр или зол? Автор голосует за первую опцию.
Хейр, Вудс. Оригинальный взгляд на эволюцию человека, согласно которому человек развился в общественное животное, склонное к кооперации.
Морлан. Людской прилив. Прошлое, настоящее и будущее в контексте демографии.
Граймс. Неразумная обезьяна. Дезинформация, конспирология, пропаганда - мы все падки на это. Почему это так и как этому противостоять.
Лоутон. Эта книга могла бы спасти вам жизнь. Как жить дольше и лучше. Обзор современного состояния науки о здоровье с критикой хайпа и отбором действительно полезных вещей.
Ридли. Как работает инновация. Рассмотрение истории появления разных прорывных вещей с попыткой анализа того, что продвигает, а что тормозит инновацию.
Пинкер. Рациональность. Почему мы принимаем решения не всегда на основе логического анализа. Написано с претензией, но получилось не очень.
Макмиллан. Война. Рассмотрение феномена войны и его влияние на человека. Есть многое, о чём забывается в мирное время. Но которое всегда остаётся с нами. Очень интересный взгляд на разные аспекты войны и всего, что с ней связано.
Чан, Ридли. Вирус. Пандемия Covid-19. Результаты расследования интернет-активистов об искусственном происхождении вируса.
Кукушкин. Хлопок одной ладонью. Человеческая эволюция в популярном изложении учёного-биолога.
Ричи. Научные вымыслы. Халтура, подлог, мухлёж - всего этого навалом в современной науке. Потому её авторитет оказывается иногда подорван. Есть предложения по исправлению ситуации. Как по мне - недостаточные.
Левитин. Счастливое старение. Процесс старения глазами нейробиолога. Много ценных советов о том, как успешно провести осень жизни. Не всё так мрачно, как видится.
Филлипс, Элледж. Заговор. Рассказ о конспирологии и конспирологах. Хороший обзор всяких бредовых теорий. Доставляет.
Мюллер. Верь малому. Как читать современную прессу и не попасться на удочку пропаганды.
Зомари. Воспоминания. Его называли "цюрихским вороном" - так точно он предсказывал мрачные события. Он же был умнейшим человеком и очень способным банкиром, блестяще прошедшим все передряги неспокойной эпохи. Много деталей, объясняющих те события и раскрывающих угол зрения людей тех лет.
Шахт. 76 лет моей жизни. Воспоминания банкира, обеспечившего взлёт Третьего Рейха. Этот хитрый лис вовремя спрыгнул и избежал наказания, попав на скамью подсудимых в Нюрнберге. Пару-тройку лет он всё-таки отсидел, и, я думаю, не зря.
Ирвинг. Война Гитлера. Фюрер надеялся, что когда-нибудь появится британец, который напишет историю Третьего Рейха так, как бы сделал он сам. И он появился, этот британец, который перевернул кучу документов и описал шаг за шагом историю этой неоднозначной персоны. Куча интересных нигде не упоминаемых фактов.
Джеффрис. Всё, всегда, повсюду. Постмодерн - как он появился, вырос и умер. А может, не умер? И кому он был нужен?
The Economist. Интересные факты и истории со страниц всемирно известного журнала.
Наварро. Я вижу, о чём вы думаете. Язык тела и как его истолковывать. В жизни пригодится!
Глаудуэлл. Разговор с незнакомцем. Журналюга надёргал жареных историй и пытается сделать из них многозначительный вывод: мы плохо знаем людей.
Восс. Никаких компромиссов. Искусство ведения переговоров. Главный секрет: поменьше уступать и стоять на своём. Неудивительно, ведь автор общался в основном с террористами.
Что увидел Алоис Не успела окончиться Вторая, как один немец увидел Третью мировую.
Продолжаем знакомиться с книгой Маргарет Макмиллан "Война. Как конфликт сформировал нас".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: война - сильнейший стресс, который ставит всё с ног на голову и необратимо меняет людей.
Одной из тайн войны являются одновременные отвращение и притягательность, которые она вызывает в душе бойца. Война обещает славу и предоставляет страдания и смерть. Воспоминания о войне многогранны. В них есть грязь, вши, крысы, смерть, напрасные атаки, равнодушные и неспособные генералы. Но есть и беспримерная дружба и самопожертвование. И даже любовь. Грязь и беспорядок - неизменные спутники войны. Любой красивый план чаще всего расстраивается уже в первые дни кампании. Для рядового бойца военные действия до середины девятнадцатого века проходили буквально в дыму. Дым рассеялся, а туман остался. В переносном смысле. Мало кто понимает, что происходит даже у соседей, лишь грохот повсюду.
Многие участники боевых действий пытались описать состояние своей души, как смесь страха смерти, необходимости выполнять приказы и странного возбуждения, которое приходит в бою. Светлана Алексиевич привела рассказ одной из фронтовичек:
Самое страшное, конечно, первый бой. Небо гудит, земля гудит, кажется, сердце разорвется, кожа на тебе вот-вот лопнет. Не думала, что земля может трещать. Все трещало, все гремело. Мне казалось, вся земля вот так колышется.
Иногда, посреди битвы, на участников снисходит странное спокойствие. Не страх, не ненависть, а абсолютная усталость, окутывающая усталый разум. Которая тоже улетучивается. Если говорить о страхе - то он есть. Но не страх смерти, а страх не сдюжить, не оправдать надежды товарищей.
Американские морские пехотинцы на Корейской войне
Сражаться бойцу помогают ритуалы, религиозные и светские. Испокон веков воины используют танец, ритуал и молитву, чтобы приготовиться к бою. Они носят амулеты и верят приметам. Выпивка и наркотики - тоже популярные средства, чтобы справиться с жутким стрессом боя.
Фронтовики скорбят по павшим, но зацикливаться на утрате нет возможности. Знание смерти делает жизнь ещё более драгоценной. Джордж Фрейзер, делясь о впечатлениях от группы бойцов, утративших товарища, отмечает, что они не демонстрировали эмоций и были абсолютно спокойны. Если они были тише обычного, то это могло объясняться усталостью. Они разложили на ткани вещи погибшего, и каждый взял что-то из них на память.
Конечно, война - не всегда экшн. Это скука ожидания и недовольство провиантом, вшами, крысами, погодой или старшими офицерами. Испокон веков бойцы жаловались на неудобства в письмах домашним. Первая мировая была войной грамотных, и многие находили отдушину в дневниках и графоманстве. Возникла целая индустрия портативных канцелярских изделий для фронтовиков. Stars and Stripes напечатала за короткие полтора года, что США участвовали в той войне 100 тысяч строк солдатской поэзии.
На войне представления о нормальности и морали выворачиваются наизнанку. Там нормально взрывать дома и мосты, смотреть на трупы и калечить людей. Никому не нужны модные одёжки, зато ножницы по металлу и пудра для ног - на вес золота. Меняется режим: днём спят, ночью действуют. Реки служат не для транспорта и полива, а для защиты. Холмы, леса, горы и долины - всё это становится тактической целью для захвата и удержания. Обозное воровство входит в норму. А секс может быть жизнеутверждающим. Знание о том, что смерть - рядом, заставляет закрывать глаза на условности и ограничения мирного времени. Но всё же чем ближе к полю боя - тем менее важны плотские утехи. Главное - выжить. Стресс не оставляет сил на прочее. Девушки - потом.
Когда фронтовик возвращается в тыл, он часто сталкивается с непониманием. Видя, как глубоко не в теме земляки, он желает, чтобы его оставили в покое. Особо бесит его зрелище, как многие в тылу наживаются на войне, в то время, как он с товарищами проливает кровь. Кстати, парадокс: ненависть к врагу самая жгучая не на фронте, а в тылу. На фронте же противника часто уважают, одновременно сознавая свой долг уничтожить его. В этой связи можно вспомнить братания на Первой мировой. У меня есть сосед, так ему немец-знакомый рассказывал про братание даже на Восточном фронте во Вторую мировую.
Своих офицеров фронтовики терпели, если те активно не добивались презрения к себе за неосуществимые приказы и удалённость от простого солдата и боевых условий. Тех, кто стремился к личной славе за счёт чужих жизней, мягко говоря, не любили. Фронтовое товарищество - вот главный мотив, ради чего стоит сражаться. Оно посильнее любой абстрактной идеи. Ещё Плутарх писал:
Мужчины носят шлем и панцири для себя, но щиты - для всей шеренги.
Во время битвы при Дьенбьенфу в плен попали наёмники из Иностранного легиона. Среди них были немцы, которые решили держаться сами по себе и сказали, что больше не поддерживают французов. Вьетнамцы стали их содержать отдельно в улучшенных условиях. Каждый день была политинформация и пение Интернационала. Один раз им сказали, что холмы, за которые сражались легионеры, были взяты вьетнамцами после тяжёлых боёв. Воцарилось молчание, после которого стали петь не Интернационал, а старинный похоронный марш. Плюшки кончились.
Те, кто сражались, не забывают ужасы войны. Но у многих после войны осталась ностальгия по товариществу и простой и понятной жизни. Гражданка кажется пресной и лишённой смысла. Один канадский генерал выразился точно: это как езда на очень быстром мотоцикле. Можно свернуть себе шею, и это добавляет драйва. Есть даже такие, кто получает удовольствие распоряжаться жизнью и смертью других и наслаждаются убийствами и разрушениями.
Вернувшись в мирную жизнь, ветераны уже не те, что были раньше. Нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Они чувствуют ностальгию, гордость, ненависть к войне, посттравматичный стресс, ярость и горе. Один из ветеранов Вьетнама сказал как-то:
Война сожгла во мне мальчика и оставила мужчину из закалённой стали.
Невозможно сказать, были ли он рад, говоря это.
Продолжаем знакомиться с книгой Маргарет Макмиллан "Война. Как конфликт сформировал нас".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: солдатское ремесло издавна было уделом низов, а сегодня к нему приобщаются женщины. В армии из людей делают автоматов для убийства. Иногда эти автоматы выходят из-под контроля.
Так же, как и общество в целом, воины относятся к войне двояко. Восторг - и отвращение. Восхищение - и страх. Что делает воина смелым - загадка. Парадокс, которых в войне много. Причины, по которым человек берёт в руки оружие, схожи с причинами, по которым воюют государства. Это - деньги, защита, а также идеи с эмоциями.
Сильные государства, которые выросли с помощью войны, часто смотрят на своих граждан как на нечто, им принадлежащее. И подлежащее мобилизациям и призывам. Попытка избежать исполнения почётного долга рассматривается, как измена. Издавна в Европе в армию брали самых ненужных. Солдатов считали расходным материалом. Хорошие фермеры и умелые ремесленники были гораздо более ценны для правителей на своих рабочих местах. Тем более расходным материалом были тела павших. После Ватерлоо многие жители Лондона щеголяли зубными протезами, добытыми мусорщиками на поле боя. А кости пошли на удобрения.
Во все времена в солдаты шли часто из бедности. Война может послужить социальным лифтом для везучих и целеустремлённых. Есть те, кто идут воевать из скуки и тоски. Чего-чего, а драйва в военных действиях с избытком. Даже в мирное время армия предлагает свою Вселенную, где правила ясны, а решения чаще всего принимаешь не ты, а командование. В армейском кругу изменяется психология человека. Жизнь в условиях риска предполагает не откладывать удовольствия на потом. В Средние века солдат был беден: довольствие, трофеи и награбленное тратились в один момент на вино, женщин и азартные игры.
Культурная мотивация тоже есть в списке причин, по которым люди идут служить. Ценности и идеологии мотивируют отдельных граждан, так же как и целые нации. Религии обещают жизнь вечную или райские наслаждения после смерти. Тысячи иранцев шли через минные поля в Ирано-иракской войне, твёрдо веря, что попадут напрямую в рай. Миллионы идут защищать свою родину, когда на неё нападают.
Война предоставляет шанс для мужчины проверить себя, сравнив со сверстниками и со старшими. В добровольцы, а также при мобилизации, первой идёт молодёжь. Молодые здоровы, к тому же ещё не обзавелись семьями и друзьями и более склонны на риск.
Предположение о том, что мужчины, а не женщины, должны воевать, кажется универсальным для любых времён и культур. Обосновывают это биологией и культурой. Да, мужчины сильнее и агрессивнее женщин в среднем, но сильных женщин тоже достаточно. В конце концов, хватает и хилых пассивных мужиков. Случись женщине сражаться - она это делает столь же яростно, как мужчина. У китайцев есть история про Сунь-цзы, которого правитель спросил, можно ли сделать сделать солдат из своих наложниц. Мудрец ответил, что можно. Он разделил их на подразделения, раздал копья и отправил маршировать. Приказ повернуть был встречен хихиканьем. Но Сунь был терпелив. Он объяснил, что его приказ был не понят. Он повторил ситуацию снова и снова. Ничего не получалось. После чего он сказал, что на этот раз приказы его были ясны, и дело в неповиновении им офицеров. И приказал тех обезглавить. Правителю стало жалко своих любимых наложниц. Но мудрец был неумолим. Двоим отсекли голову. После этого женщины стали прекрасно маршировать, держа при этом рот на замке.
В истории достаточно примеров женской храбрости на полях сражений. Свыше трети скифских захоронений принадлежат воинам-женщинам. Дагомея располагала элитным женским корпусом из сотен девственниц. Те женщины были сильны физически, вооружены огнестрельным оружием и имели репутацию яростных и беспощадных воинов, куда лучше мужчин. Примеры женского мужества хорошо помнятся, потому что они редки. Чаще всего женщина играла в войсках вспомогательную роль, служа в борделе или обозе. В процессе эмансипации вооружённые силы стали медленно допускать слабый пол в свои ряды и использовать его в боях. Этому мешала масса предрассудков, одним из которых было желание остаться в тесном мужском кругу, где не место многим приличиям. Женщинам приходилось также бороться против своего же представления, что они мягче мужчин.
И всё же требования массовой войны открыли двери армии для гражданок. Однако чаще всего женщин использовали не на передовой, в качестве санитарок, писарей и водителей. Британцы обнаружили, что призывницы блестяще справляются с задачей чтения аэрофотоснимков. И даже гитлеровцы с их Kinder, Küche, Kirche к концу войны имели в рядах Вермахта полмиллиона женщин на вспомогательных должностях. В Красной армии женский состав воевал в зенитных войсках, пехоте, танковых, войсках, авиации...
"Ночные ведьмы" из 588 полка ночных бомбардировщиков.
Короче говоря, трудно объяснить долгую историю половых различий в армии одной лишь биологией. Впрочем, не только многие мужчины полагают, что поле сражения - не место для дам. Даже поколения феминисток с неохотой занимались этой темой, оставляя ещё для мужчин. Мальчиков воспитывают защитниками Отечества, и делают это матери с сёстрами. Многие женщины относят себя к противницам войны на том основании, что они дают жизнь и не забирают её обратно. Но многие оказались в лагере поджигателей. "Морнинг Пост" в Первую мировую напечатала письмо матери двух бойцов с призывами поддержать традиции и славу Империи и презрением к мирной агитации.
Но вернёмся к причинам, по которым люди идут воевать. Война может предложить не только приключения, но и весьма прибыльный бизнес. Наёмники издавна срубали нехилые бабки за свой опасный труд. Итальянские кондотьеры имели привычку останавливаться посреди боя, требуя оплаты.
Но вообще война - нелёгкое ремесло, требующее сплочённости и силы духа. В обществах, подобных древнеримскому, культура загодя готовила молодёжь к солдатской доле. Если же доминируют мирные ценности, трудно сделать из призывника приличного солдата. Старые привязанности к семье, друзьям и знакомым должны быть заменены новыми - к своему полку или экипажу. Боевые символы помогают ковать новую общую идентичность. Когда Август отвоевал два штандарта у парфян, он выпустил в честь этого специальную монету. Лояльность бойца обеспечивалась строгой дисциплиной с угрозой наказаний. Фридрих Великий говорил, что солдат должен бояться своего офицера больше, чем врага. Строевая подготовка, ритуалы и муштра отшлифуют воинов, которые будут исполнять приказы и задания слаженно, подобно атлетам и танцорам, причём в любых условиях.
Военная иерархия, сплочённость и дисциплина имеют, однако и определённые риски. Батальон убийц, способных на всё по приказу, не будет задумываться о моральной стороне своих действий. Среди эсэсовцев были и полноценные садисты, и те, для кого убивать беззащитных было просто работой. Сильное чувство товарищества и готовность выполнять приказ могут привести к систематически организованным жестокостям и злу. При этом нацисты здесь не исключение. И военные из старых добрых демократий способны на жуткие зверства. Трудно сделать из человеку убийцу, но ещё труднее сохранить над ним контроль.
У войны свои законы, и одним из самых старых и устойчивых является неприменение насилия к пленным и гражданским. Насколько это возможно, конечно. Картин осады городов, казни заложников, обстрелов церквей, полных беженцев или сжигаемых ферм - слишком много. Мать одного из американских солдат, который рассказал по телевидению, как они уничтожали вьетнамских крестьян со стариками и детьми, сказала о своём сыне:
Я отдала им хорошего мальчика, а обратно они прислали мне убийцу.
Продолжаем знакомиться с книгой Маргарет Макмиллан "Война. Как конфликт сформировал нас".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: сегодня война укоренилась в нашем обществе. Она сидит в нашем сознании и образе жизни. Крутятся колёсики экономики, трудится наука, работает пропаганда, выступают политики. Мир привык к такой жизни.
Ну вот мы и пришли к теме современной войны. В процессе исторического развития изменения происходили не только с оружием, но и с мотивацией воинов. Всё чаще они сражаются не из страха перед офицерами, но из убеждённости в правоте своего дела. Массовая грамотность и печатное дело позволили широко и быстро распространяться идеям, в числе которых оказался национализм. Современная война длится дольше, стоит больше и солдатов требует тоже больше. Всё больший процент ВВП стал уходить на оборону. Двадцатый век обогатил языки новым выражением: тотальная война.
Приход инноваций запускал процесс поиска противодействия. Увеличение дальнобойности, калибра и частоты огня артиллерии спровоцировало рост сложности фортификаций, изрезало поля сражений окопами и опутало колючей проволокой. Дым от чёрного пороха застилал поля сражений наполеоновский войн, и войска одевались в цветную униформу, чтобы отличать своих от чужих. Прошла сотня лет - и английские красные мундиры стали прекрасной целью для фермеров-буров, которые были прирождёнными стрелками. Британия сделала выводы и в Первую мировую одела свою армию в хаки. Тогда как французы, например, пошли на войну в красных штанах.
Вплоть до девятнадцатого века оборона была эффективнее нападения. Гружёному солдату тяжело выбираться из окопов, чавкать по грязи и перелезать через колючую проволоку. Хорошо защищённая позиция позволяла удержание даже при многократном перевесе у противника. Но к концу Первой мировой с приходом отравляющих веществ, самолётов, танков и огнемётов сила обороны пошла на убыль. Вторая мировая возвестила превосходство атаки. Блицкриги показали эффективность пикирующих бомбардировщиков и двигателя внутреннего сгорания на поле боя. Одновременно выросла прожорливость войн. Французы расстреляли половину своих боеприпасов за первый месяц Первой мировой. Запас немецких снарядов опустел за шесть недель.
Вряд ли войны длились так долго, если бы не удалось поставить на службу фронту целые экономики. Грань между законными и незаконными целями стала стираться, исчезнув почти совсем. Во Франко-Прусскую войну немцы стали обстреливать жилые кварталы, чтобы заставить французов сдаться. Гражданское население стало частью поля боя. Выбора не было. В то же время сила общества позволила ему превратиться в эффективную машину для убийства. Соответственно выросла летальность конфликтов. Но прогресс шёл и в гражданской обороне, и в медицине. Если раньше ранение очень часто означало смерть, то сегодня боец имеет шансы встать в строй снова и снова.
Демократия не только позволила гражданину участвовать в управлении страной, но и возложила на него почётный долг защищать её с оружием в руках. Силы национализма мобилизовали многие миллионы солдат. Европейцы стали рассказывать свои национальные легенды и мифы с моментами славы и унижений детям в школе. К делу мотивации привлекли религию. Для многих националистов война была повитухой нации и давала ей энергию и жизнь. Муссолини говорил:
Война... приводит к высочайшему напряжению всю человеческую энергию и придаёт печать благородства людям, которые имеют смелость встретить её.
Когда Международный Красный Крест предложил создать безопасные зоны для гражданского населения во время штурма Берлина, начальник немецкого генштаба отверг это предложение с презрением. У нацистов не государство принадлежало гражданам, а наоборот.
Испытанным средством разжигания у националистов является демонизация врага, будь то военный или гражданский. Враг видится экзистенциальной угрозой справедливости и препятствием на пути реализации нации. Во франко-прусскую войну любой француз, взявший в руки оружие, считался неприятелем лишённым всяческих прав. Соответственно, пруссаки стирали с лица земли целые деревни. Штатские - не исключение. Жена Бисмарка призывала в то время "расстреливать и закалывать французов, вплоть до младенцев".
Если национализм предоставил мотивацию, то промышленная революция предоставила материал. Стандартизация и массовое производство обеспечили неслыханный приток вооружений и боеприпасов. Кассеты, пули, снаряды заменили "рассыпной" порох. Пулемёт стал выпускать сотни пуль в минуту. Механизированный транспорт заменил тягловую силу. С помощью поездов и пароходов армии стали двигаться дальше и быстрее, а также поддерживать более длинные пути снабжения. На море паровая турбина сделала корабли более надёжными, манёвренными и быстрыми. Уголь и мазут стали стратегическим ресурсом, запасаемым флотами в различных уголках планеты. Многие морские офицеры поначалу с опаской относились к стальным корпусам. Но время шло, и броненосцы стали де-факто стандартом. Рост дальнобойности корабельной артиллерии привёл к тому, что морские дуэли стали совершаться "заочно", то есть через линию горизонта. Позднее подводные лодки и морская авиация ещё более расширили области сражения флотов.
Прогресс шёл и в организации военных действий. Без эффективного интенданта войну не выиграешь, что показала Русско-японская война. Мало построить железную дорогу, надо и управлять ей эффективно. Признанными корифеями организации были, конечно, немцы. В девятнадцатом веке шутили, что в Европе есть пять совершенных вещей: Римская курия, британский парламент, русский балет, французская опера и немецкий генштаб. Который в 1905 году насчитывал восемь сотен высококвалифицированных и амбициозных специалистов. Неспособность же царского режима организовать снабжение фронта и городов привела в конечном итоге к его падению.
Растущая бюрократия работала на войну. Переписи населения обеспечили приток важных данных. Потребность в боеспособных и здоровых призывниках содействовала улучшениям в общественном здравоохранении, питании, жилищных условиях и образовании. Запрягли на войну и науку. Гитлер её недооценивал и позволил выехать многим учёным, которые затем помогли американцам сделать атомную бомбу.
Военные действия ведутся за контроль над ресурсами и пути снабжения ими. При этом не гнушаются саботажем, нападениями и блокадой. Морская блокада является излюбленным методом англичан, которые практиковали её против Наполеона и Германии. До Перл-Харбора американцы наложили эмбарго на экспорт металла и нефти в Японию, и у тех не осталось выхода. Как не осталось и перспектив выиграть войну.
Критически важно продовольствие. Римляне победили Ганнибала, отрезав ему снабжение. Русские боролись с Наполеоном и Гитлером, уничтожая склады с провиантом при отступлении. Немцы в Первую мировую не смогли организовать адекватный режим экономии, за что и поплатились голодом. А вот в Британии во Вторую мировую распахали каждый свободный акр. Автор рассказывает, что когда её отец прибыл в те годы в Туманный Альбион через Панамский канал, то привёз с собой огромную ветку с бананами в качестве подарка будущей супруге. Так вот люди в вагоне смотрели с благоговением и покорно просили разрешения, чтобы просто понюхать. На войне, как на войне. Тут уж не до выбора в супермаркете.
Война - дорогое удовольствие. Без экспроприации богатств общества государством в наши дни не обойтись. В Первую мировую доля государства в экономике западных стран выросла в 4-8 раз, а к середине Второй на войну в Германии тратилось уже 71% ВВП. Когда воцарялся мир, правительства не спешили отпускать рычаги управления из своих рук. Налоги снизили, но не до довоенных уровней. А Россия вообще получила большевистское правление.
Необходимый компонент войны - живая сила. По мере роста армий военный призыв стал делом мирного времени. В офицеры стали брать далеко не только аристократов. Служба по призыву помогает формировать лояльных граждан, что обнаружили уже немецкие генералы в канун Первой мировой. Они говаривали, что социализм - это болезнь, которая вылечивается доброй дозой военной тренировки.
Перемены часто воспринимаются с подозрением. Крепко держались за свои традиции англичане, пока не обнаружили бездарность многих своих офицеров в Крымскую войну. В 1903 году молодой полковник Фердинанд Фош убедительно доказал эффективность укреплённой обороны. Став Верховным главнокомандующим в войну, он пренебрегал аэропланами. Многим и многим людям и лошадям пришлось распрощаться своими жизнями, перед тем как кавалерия оставила поле боя презренным танкам и броневикам. Раньше считалось, что героизм может компенсировать недостаток вооружений и боеприпасов. В конце концов, можно пойти в штыковую атаку. Но увы, против пулемётов и отравляющих газов не попрёшь. Один французский генерал в Первую мировую сказал:
Трое с пулемётом способны остановить батальон героев.
Война уже давно неразрывно взаимосвязана с обществом. Общественное мнение - не праздная фантазия. Газеты и издательства поняли, что конфликты поднимают оборот. Военные корреспонденты и фотографы возводятся в статус героев. Но если им дать полную волю - жди беды. Война во Вьетнами была проиграна не на поле боя, а в тылу, после того, как публика стала считать её несправедливой и бесполезной. Особенно тяжело вести непопулярную войну в условиях демократии: можно проиграть следующие выборы. Но бывает и наоборот, когда общественное мнение заталкивает правительства в нежелательные конфликты. Военное лобби - не миф. Однако мы здесь имеем дело с двусторонним движением. На общественность можно влиять. После Вьетнама американские СМИ в случаях конфликтов оказались в условиях строгого контроля. А в мирное время обывателя развлекают всевозможными военизированными шоу.
Милитаризм в обществе может привести к проблемам в условиях демократии. В этом можно убедиться на примере современного Пакистана, где военные варятся в собственном соку и поддерживают терроризм в соседних странах. Известно, что пакистанские военные помогли обзавестись Северной Корее атомной бомбой. Настораживающее политическое развитие можно сегодня наблюдать и в соседней Индии. Демобилизованные фронтовики сбиваются в военные организации на гражданке и подпитывают фашиствующих политиков. Один итальянский фашист сказал:
Для нас война никогда не закончилась. Мы просто заменили внешних врагов на внутренних.
Разумеется, милитаризм нередко приводит к войне. В милитаризованном обществе военным частенько всё сходит с рук, даже преступления против штатских. Вообще, идея, что война не только естественна, но и необходима для общества, имеет давнюю историю. Уже древние римляне считали, что общий враг для них полезен. Аура героизма поддерживается масс-культурой. Уже в викторианские времена войну часто считали особенно возвышенной формой спорта. Офицеров почитают, как защитников Отечества, а солдат - всегда уважаемый постоялец. Не то, что раньше, когда их отвергали, подобно нищим и собакам.
И всё же иногда между строками патриотических призывов читается страх. Перед Первой мировой в британской прессе высказывались опасения, что растущее благополучие снижает мотивацию к участию в сражениях. На самом деле эти страхи по большей части необоснованы. Одной из главных загадок Первой мировой было то, как долго смогли терпеть военные и гражданские. Одним из объяснений является пропитывание гражданского общества военными ценностями, которые психологически подготовили европейцев к войне. Более того, существовала надежда, что война всё решит, всё разрулит. Что пройдёт короткая гроза - и воздух станет чище. Увы, надежда эта слишком часто не подтверждается...
Продолжаем знакомиться с книгой Маргарет Макмиллан "Война. Как конфликт сформировал нас".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: история военного дела изобилует неожиданными поворотами, забвением и восстановлением старых практик, а также человеческой изобретательностью. Которая не знает границ и способна загнать человечество в гроб.
Люди разные и воюют они тоже по-разному. В олигархических обществах война - занятие в основном высших слоёв населения. При демократии обязанность сражаться распределена более равномерно. Стилей ведения боевых действий тоже великое множество. Но, конечно, можно выделить определённые правила и пытаться предугадать действия неприятеля. Наполеон часто не следовал правилам, совершая, например, ночные марши. Чем шокировал врагов. А я вот припоминаю при этом знаменитое кутузовское "воюем, как умеем"...
Культура войны укоренилась во многих обществах. Одним из таких была Древняя Спарта, где матери наказывали сыновьям вернуться либо со щитом, либо принесённым на щите: потерять щит было неслыханным позором. Римляне тоже прославляли битвы и храбрость. Про них говорили, что они рождаются с оружием в руках. Прошли века, и Пруссии суждено было прослыть северной Спартой. Про неё шутили, что это не страна с армией, а армия, у которой есть страна. А вот классический Китай, несмотря на многочисленных великих полководцев, не возвышал военных. Самым почитаемым человеком в обществе был чиновник. Сунь-цзы говорил, что лучший полководец это тот, кто может выиграть войну, не вступая в сражение. Неудивительно, что военизированные общества относились к "гражданским" соседям с пренебрежением.
На планирование войны накладывает свой отпечаток не только культура, но и география. Британцы исторически уделяют больше внимания войне на море. Они не одни в этом смысле: вода всегда была самым надёжным способом передвижения. Афины контролировали практический каждый порт на Эгейском море в пятом веке до н.э. США, хоть и не остров, но хорошо защищены океанами от врагов. Германское военное планирование в двадцатом веке не могло позволить себе такую роскошь. И потому было сфокусировано на возможности войны на два фронта, а также предпочитало авиацию ближнего радиуса действия, чтобы защищать войска. Израилю тоже приходилось жить в страхе перед окружением.
Опыт прошлой войны неизбежно изменяет планирование следующей. Тридцатилетняя война побудила европейцев вести военные действия более гуманно. Вот ещё пример: Франция, исстрадавшись в Первую мировую, избрала оборонительную стратегию и выстроила линию Мажино. Или вот: японцы избрали в битве за Мидуэй проверенную тактику Цусимского сражения. Но не впрок.
Под впечатлением великих побед древних большинство европейских стратегий были нацелены на решительную военную победу и капитуляцию врага. Наполеон всё время стремился к решающим сражениям, пока не получил своё Ватерлоо. При всей любви к сражениям Запад умело пользовался и природными препятствиями, будь то швейцарские Альпы или голландские каналы.
Китай, действуя по заветам Сунь-цзы, стремился сохранить живую силу. Сдерживать орды кочевников с севера старались комбинацией стен и взяток. Похоже действовали британцы после того, как им дали отпор в Афганистане. Ещё один способ справиться с неприятелем - применять тактику выжженной земли, не оставляя запасов неприятелю по мере отступления. Так боролись против Наполеона испанцы, и русские.
Вооружения были и находятся в состоянии гонки между оружием и противооружием. Борьба брони и копья-снаряда, пехотинца и конницы, защиты и обороны. Порой успешные тактики забывались, чтобы быть заново открытыми века спустя. Сперва конница доминировала над пехотой, затем древние греки научились строиться в фаланги, чтобы успешно противостоять. Потом это дело подзабылось, и лишь в Средневековье пехотные каре возвестили конец рыцарства.
В глубокой древности появилось на свет оружие, предназначенное исключительно для убийства. Изменялся дизайн, появлялись новые материалы. Уже во втором тысячелетии до нашей эры был изобретён составной лук, стрелявший сильнее и дальше. Потом появился металл, сперва бронза, затем железо, а потом сталь. Не менее важной инновацией явилась лошадь. С её появлением в войсках стало возможным формирование сильных государств с военной элитой. Около трёх тысячелетий назад колесницы потеряли лидерство, уступив его тяжёлой пехоте. Кавалерии стали отводить вспомогательную роль. Римские легионы ходили пешком. Но потом прискакали гунны, и конница пережила вторую молодость. В этом помогло маленькое, но важное изобретение: стремя. Попробуйте-ка погарцевать без стремян несколько часов - ступни отвалятся.
Культура, техника и война так переплелись в ходе истории, что трудно сказать, что чем было вызвано. Инновации перетекали из одной в области в другую и обратно: рычаг есть в виноградный пресс и катапульте, металл - в колоколе и пушке, динамит - на шахте и в окопах.
Использование технологии завязано частично на ценности и организацию общества. Крестьянин лучше мобилизуется, чем охотник. Потому первые крепостные стены были построены не где-нибудь, а в Иерихоне, и когда-нибудь, а 10 тысяч лет назад. Усиление государств сопровождалось усилением армии. Ассирийцы уже имели спецподразделения и рода войск, сеть дорог и складов, которыми распоряжалась армия бюрократов. Логистика была сильной чертой и Древнего Рима. В подобных иерархических обществах война является прерогативой элиты или единого правителя. Но была и другая модель, где решения принимали граждане. В греческом полисе они участвовали в управлении, но взамен были обязаны защищать свой полис с оружием в руках. Дисциплина и социальные связи позволили им добиться небывалого по тем временам уровня координации в войсках. Который наглядно был продемонстрирован в битве при Марафоне.
Конец Древнего Рима сопровождался перетоком власти на уровень "полевых командиров" - первых феодалов. Те содержали свои частные армии на доход с подконтрольной территории. Фокус стал смещаться в сторону бронированной кавалерии. Это дорогое удовольствие. Если учесть запущенные дороги, то неудивительно, что армии тех лет были невелики. Но ещё до прихода пороха и пушек преимущества конницы стали низводиться за счёт нового оружия и тактики. Европа заново открыла для себя арбалет. Однако кавалерию трудно было свергнуть с пьедестала. Шёлковые рубашки воинов Чингиз-хана не только помогали извлекать стрелы, но и снижали риск инфекции при ранении. В Столетнюю войну блестяще зарекомендовал себя Уэльский длинный лук, стрелы от которого пробивали кольчуги и деревянные сёдла. Эпоха рыцарей пошла к закату. Осадная и полевая артиллерии забили гвоздь в гроб рыцарства. Частные армии и домены стали пропадать. Появились абсолютисткие государства, и соответственно начали расти армии.
Порох, придуманный китайскими алхимиками в поисках эликсира вечной жизни, совершил революцию в военном деле. Пришлось строить крепости с ещё более толстыми и извилистыми стенами. Первые мушкеты вполне могли разорваться в руках у заряжающего. Сама зарядка длилась аж минуту, да ещё делать это надо было стоя под вражеским огнём. Мушкетёру надо было иметь выдержку, чтобы дать неприятелю подойти поближе: перезарядиться можно было и не успеть. Голландцы стали отходить после выстрела назад за спины товарищей, чтобы перезаряжаться. Оказалось, что время боя движения должны быть строго согласованы. Это требовало жесточайшей дисциплины и долгой муштры. Это в свою очередь усиливало необходимость постоянной армии. Для подготовки пехотного полка стало требоваться 5-6 лет тренировок. Непросто было вбить в голову крестьянина новые умения. Знаменитая шведская дисциплина состояла из совместных ежедневных молитв, экзекуций за грабёж и прочие провинности, а также децимарий для подразделений, сбежавших с поля боя. Печатное слово помогло новациям распространиться по Европе, и с тех пор европейские вымуштрованные армии стали наводить ужас по всему миру.
Драматические перемены произошли на море, после того, как запрягли силу ветра. Последний раз галеоны воевали в битве при Лепанто в 1571 году. Компас, секстант и хронометр раскрыли моря мира для европейских мореходов. Сухой док позволил загружать орудия сбоку, а не на палубу. Теперь можно было грузить без опаски перевернуться. К семнадцатому веку сложились контуры современной армии с родами войск, офицерскими школами, казармами, униформой, интендантством и госпиталями. Войны стали чаще, но и гуманнее.
Новшества не всегда гладко пробивали себе дорогу. Пушки придумали китайцы, но им они оказались без особой надобности в борьбе с кочевниками. Когда в инновации видели пользу, её с энтузиазмом принимали на вооружение, как индейцы приняли лошадь, а японцы - западные технологии после реставрации Мэйдзи. Однако ностальгия и инерция часто мешали прогрессу в военном деле. Современные пилоты жалуются, обнаружив, что они лишние в кабине самолёта. Так же, как жаловались спартанцы при знакомстве с катапультой.
Не сразу избавились от кавалерии, после того, как стало ясно, что она не может маневрировать под дальнобойным огнём. Дворянину, выросшему в седле, было тяжело сознавать бесполезность лошадей в бою. Даже пулемёт не сразу стал королём полей сражений в Первую мировую. Английские офицеры прятали эти "проклятые вещи" на флангах. Парусники на флоте десятилетиями держались против пароходов. Иннокентий Второй считал арбалет "богопротивным и неподходящим для христианина". Потом его разрешили в борьбе с неверными - те всё равно попадут в ад. Аркебуз с мушкетами боялись, считая дьявольскими изобретениями на вооружении неверных. Леонардо да Винчи скрыл своё изобретение подводной лодки от людей, чтобы те не воспользовались им в нехороших целях.
Японцы узнали про пушки от португальцев в шестнадцатом веке. И даже взяли на вооружение, модернизировав при этом. Прошла сотня лет - и от них отказались. Самураям светило потерять привилегии, да ещё в стране столетиями царил мир. Мэтью Перри показал в 1853 году, что зря они это сделали. Технологическая отсталось явилась причиной упадка Китая примерно в то же время. В Первую опиумную джонки вышли воевать против парохода под красноречивым названием Немезида.
Научно-техническая революция ускорила изменения в военном деле и увеличила летальность оружия. В 1914 году аэроплан был хлипкой безоружной этажеркой, а четыре года спустя превратился в бомбардировщика. Шли годы, реактивный двигатель стал сменять винт. Август 45-го возвестил начало атомной эры. Сегодня ядердые арсеналы обеспечивают многократное уничтожение человечества. Так и живём...
Доброго времени суток, уважаемые.
Вот уже в который раз мир сменяется войной. Все говорят, что это плохо, но оно снова и снова случается. Феномен войны - часть истории человечества. С ним приходится жить и приходится разбираться. Хотя бы для того, чтобы извлекать уроки из прошлого и делать выводы на будущее. Чем занимается Маргарет Микмиллан, канадская профессор-историк, правнучка британского премьера Ллойд-Джорджа.
Война. Как конфликт сформировал нас.
Книга свежая, перевода нет пока. Может быть, и выйдет когда-нибудь. Тема эмоциональная, особенно сейчас. Но я попытаюсь сохранять спокойствие и держаться фактов. Начнём.
Как я уже сказал выше, война - не трагическое отклонение в человеческой истории, о котором стоит поскорее забыть. Это и не отсутствие мира, который является нормальным положением дел. Она связана с обществом, её нельзя игнорировать. Недавно я рассказывал о книжке двух анархистов, так вот они имеют своё мнение на этот счёт. На мой взгляд, оно плохо обосновано. Можно не находить врождённой агрессивности в мозгу, но свидетельств насилия и конфликтов в истории предостаточно.
Когда война отдалена во времени и пространстве, она не кажется столь страшной. О ней забывают. О ней думают, что это просто такое состояние, когда мир прерывается. Как результат, к ней относятся недостаточно серьёзно. Маргарет рассказала, как она собиралась впервые читать курс по теме "Война и общество" и сказала об этом консультанту по образованию. В ответ получила мрачный взгляд и предложение назвать курс по-другому. Например, "История мира". Но нельзя отворачиваться от этой зловещей темы, как бы ни хотелось.
Ведь война не просто с нами, она формирует историю и нас самих. Бесчисленные произведения искусства посвящены ей, начиная с гомеровской "Илиады" и заканчивая "Войной и миром". А игры-стрелялки! А спорт с его ультрас! Даже Олимпийские игры, задуманные как средство сотрудничества, получили свои медали, гимны, флаги, униформы и превратились в соревнования держав. Война - прекрасный организатор, который структурировал наши общества. И даже ускорил позитивные перемены. С ростом способности убивать мы стали терпеть меньше насилия между собой.
Война - парадоксальное явление. Многие её восхваляют, считая тоником для общества или даже гигиеной. Мао сказал однажды:
Революционная война это антидот, который не только уничтожает яд врага, но и очищает нас от своей грязи.
В то же время, традиция смотреть на войну как на зло так же долга. Здесь можно обойтись и без цитат.
19 сентября 1991 года двое немецких туристов нашли в горах Тироля вмёрзшую в лёд мумию. Этци, который закончил свою жизнь 5300 лет назад, приняли было за замёрзшего путника. Пока не нашли застрявший в плече наконечник стрелы и следы крови ещё трёх человек на одежде и кинжале. Вряд ли он мирно закончил свою жизнь. Похоже, следы насилия можно обнаружить на всём протяжении человеческой истории. Правда, это тем труднее, чем дальше в прошлом. Исследователи происхождения общества предполагали в прошлом веке, что ранние племена вели мирное сосуществование. Но увы, появились древние находки с недвусмысленными травмами.
Кремневый кинжал Этци.
Уильям Бакли прожил с австралийскими аборигенами три десятка лет. Мир, представший перед его глазами, состоял из набегов, засад, долгих распрей и внезапных насильственных смертей. Яномамо в Южной Америке тоже не впечатляют миролюбием. Факты вещь упрямая, и они, похоже, говорят в пользу склонности людей совершать организованные атаки на себе подобных. То есть воевать. Ответов на вопрос "Почему?" предостаточно. Вот только согласия в них нет.
Война - коллективное занятие. С появлением оседлого земледелия это занятие стало более изощрённым. Оптимисты навроде Стивена Пинкера считают, что мы движемся от насилия, считая количество смертей в конфликтах по десятилетиям. В прошлом оказались и публичные казни, и телесные наказания. Однако достаточно серьёзные исследования показали: да, конфликты становятся реже. Но и разрушительнее. И сегодня они вспыхивают то тут, то там.
Может, мы генетически предрасположены к насилию? Если посмотреть на наших ближайших родственников - шимпанзе и бонобо, то обнаружим, что первые вполне склонны к брутальности, а вторые - миролюбивы. Мы же похожи на тех и других. Будучи способными на насилие в состоянии страха, мы в тоже время сотрудничаем, доверяем и помогаем друг другу. Мы научились укрощать свою агрессивную сторону, самоприручив себя. Я рассказывал об этом здесь. Но всё же это не значит, что мы покончили с насилием. Мы его, скорее, упорядочили.
Философы давно спорили о природе человека. Гоббс считал, что человек зол, и общество его дрессирует. Руссо - что цивилизация испортила доброго дикаря. Для решения проблемы последний предлагал перестроить отношения между людьми, положив начало левой идее. Раз за разом руссоисты искали в событиях истории появление нового Эдемского Рая, принимая за него то советский социализм, то китайский. Маргарет Мид рисовала благостные картинки мира без жадности и злости на Самоа. Всё оказалось миражом.
Кто же был прав, Гоббс или Руссо? Если Гребер и Уэнгроу, написав свою историю, говорили, что никто, то большинство археологических свидетельств говорит в пользу Гоббса с его непрестанным состоянием войны. Утешением может служить лишь то, что когда войны кончаются, жизнь изменяется в сторону мира и прогресса. В брутальном государстве хорошо работает полиция, и мало бандитов. Император Цинь вошёл в историю, как безжалостный тиран. Но потомки сохранили память о том, что он принёс в Китай мир и порядок. Где государство растворяется - жизнь становится опасной. Примеров хватает: Йемен, Сомали, Афганистан... Великие державы не обязательно приятны на вид. Однако они приносят безопасность и стабильность своим народам. И даже допускают иногда чужие обычаи и религии. А также служат полицейскими у соседей. Сегодня мировой гегемон ослабляет свою хватку, и люди замечают, как не хватает мирового полицейского то здесь, то там. Так уже бывало в истории. Финал прост: растущие конкуренты бросают вызов, и мир быстро разворачивается в гоббсово состояние анархии, где никто никому не доверяет.
Чарльз Тилли сказал:
Война создала государство, а государство создало войну.
Парадоксально: но факт. Хочешь защититься - организуйся. Чем богаче становились страны - тем дороже было оружие, а также многочисленнее армии. Которые снабжать чем-то надо. Вокруг этого наросла экономика, появились денежные системы и бюрократические иерархии. Появился всепроникающий государственный контроль. Подданным и гражданам указывают, чем им заниматься и чего нельзя делать. Особенно ясно это проявилось в мировые войны, когда регулированию подверглись даже одежда, продовольствие, развлечения, путешествия. Всё для фронта, всё для победы. И в мирное время фабрики работают по часам, а дети носят школьную форму.
За доблестную службу полагаются плюшки. За участие в войне давали гражданство уже древние греки с римлянами. Современные правительства нуждаются в народной поддержке, которую они вознаграждали расширением гражданских прав женщин, например. Чтобы призывник был здоров, можно и поднять здравоохранение, и ввести бесплатные завтраки в школе. Как это сделали в Британии после того, как в Англо-бурскую войну каждый третий доброволец был признан негодным. После Крымской войны Александр Второй отменил крепостничество. Ему тоже нужны были солдаты. Правление против интересов своего народа привело царское самодержавие к конце концов к краху. Этот крах оставил широкие круги на мировой истории. Конец Второй мировой ознаменовался появлением систем социального обеспечения, и это было не просто так.
Вальтер Шайдель (обзор его книги здесь) и Тома Пикетти указывали, что война, будучи одним из Всадников Апокалипсиса, снижает неравенство в обществе. Стимулируется занятость, повышаются налоги: всё это снижает разрыв между богатыми и бедными. И даже социальное неравенство уменьшается, после того, как различные слои населения перемешиваются в мясорубке войны.
Эти все позитивные стороны не оправдывают войну. Надо улучшать планету в состоянии мира. Но в мирное время почему-то на всё хорошее часто не находятся деньги. Решение проблем переносят на завтра.
Предлогов для войн бывает много. Начиная от легендарного яблока раздора и заканчивая незадавшейся судьбой эрцгерцога Фердинанда. Но предлог - это не причина. В Средние века правители считали землю своей собственностью и были не прочь прирезать то, что плохо лежит. С течением времени выросла роль доходных торговых путей, за которые, например, разгорелась война между Британией и Испанией. Ухо капитана Дженкинса было в ней лишь предлогом. Одним из самых удобных предлогов является защита единоверцев, на которую ссылалась Россия в девятнадцатом веке.
Несмотря на такое разнообразие, определённые мотивы повторяются снова и снова. Это жадность, самооборона, эмоции и идеи. Монголы ходили за богатой добычей, Кортес жаждал золота, Гитлер - жизненного пространства для своей нации, а Саддам Хусейн - кувейтскую нефть.
Тот, кто защищается от вторжения, ведёт оборонительную войну, как это делали финны в Зимнюю войну и поляки - во Вторую мировую.
Но есть войны и превентивные, которую ведут против предполагаемой угрозы. Так называемая Ловушка Фукидида. Так граждане Спарты проголосовали за войну, чтобы предотвратить дальнейший рост власти Афин. И так же Израиль напал в 1967 году на своих соседей.
Подозрения и страх могут испортить жизнь целым народам.
А вот король-солнце не имел страха и всё равно воевал. Ему хотелось личной славы. Любил славу и Наполеон. Сохранение чести или желание отомстить - вот вам ещё одна причина. Австрийцы были оскорблены убийством Франца-Фердинанда, хоть они его и не любили. Ганнибал вырос, горя желанием отомстить за поражения Первой Пунической, а унижения Версаля посодействовали разгоранию Второй мировой.
Хотите ещё причин или предлогов? Их есть у меня. Нацоналисты пользуются идеологией. До того, как изобрели национализм, люди пользовались для развязывания войн религией. Идеологические войны - они часто самые жестокие. Ибо небесное царство оправдывает любые жертвы. Те же, кто разделяет чужие идеалы и верования, заслуживают смерти. Французские революционеры несли в мир свободу. Один из них сказал в 1791 году:
Я требую войны, потому что я хочу мира.
Гражданские войны, в которых на кону стоят основы общества, по характеру часто можно сравнить с крестовыми походами. Они подпитываются гневом и болью от измены противоположной стороны. Они разрывают связи в обществе и часто сопровождаются бескрайним насилием. Мелкие обиды и вражды разгораются и становятся летальными. В США в войне участвовало 3 миллиона мужчин, и это при населении в 30 миллионов! Свыше миллиона из них было ранено или убито. Потом воцаряется мир, но боль остаётся и ещё долго мучает и оставляет людей врагами.
Добиться мира труднее, чем воевать.
Так говорил Жорж Клемансо. И это верно практически всегда. Слишком часто начинают воевать без того, чтобы заранее продумать, какие цели нужно достичь и какой мир нужен. Немцы в Первую мировую поставили лишь на один сценарий из множества возможных. А оно сложилось гораздо хуже, когда они попали в войну на истощение. К ней они оказались не готовы. А всё потому, что военные были сконцентрированы лишь на сражениях, а гражданские не озаботились о том, что будет после. Те, кто начинают войну, каким-то образом думают, что она всё разрулит.
Американцы вторглись в Ирак, сфокусировавшись на том, как разбить Саддама. А вот плана обустроить страну после войны у них не было. Перед вторжением они организовали генеральную репетицию. Генерал, "игравший" за заведомо слабейших иракцев, не имел продвинутой электроники и прочих прибамбасов. Он стал соблюдать режим радиомолчания и доставлять сообщения на мотоциклах. С помощью смертников на катерах ему удалось уничтожить 16 кораблей противника. Тогда Пентагон остановил военную игру и изменил правила. А также воскресил уничтоженные корабли. Генералу приказали раскрыть местоположение своих частей и отключить ПВО. "Да ну нафиг", - сказал он и вышел из игры.
Недостаток информации и неопределённость вносят свои коррективы в ход боевых действий. Война набирает свою инерцию. Её легче начать, чем остановить. Решительная победа, в которой победитель навязывает свой мир побеждённому, может оказаться слишком дорогой. В то время, как условия мира могут не оставить довольным никого. Их трудно будет потом "продать" своим элитам и публике. По мере разгорания войны растут издержки, равно как и желание отомстить. Когда вероятность быстрой победы в Первой мировой испарилась, властям пришлось обещать своим народам всё больше, лишь бы не было беспорядков. Список покупок был расширен. Россия захотела контроль над Чёрным морем и проливами, Британия с Францией собрались прирезать себе османский Ближний Восток, в то время, как их африканские колонии вошли в немецкий список. Немцы стремились к экономическому доминированию на всём европейском континенте. Условия Брестского мира показали, что в меню был и политический контроль.
Как мы убедились, поводов много, а причин - ограниченное количество. Можно говорить про честь и престиж, но жадность, оборона, эмоции и идеи никуда не деваются. Как никуда не девается и стратегия на подрыв и разрушение способности врага вести военные действия. Тот, кто защищается, стремится измотать нападающего. Нападающий же уничтожает чужую военную силу, осаждает города и порты или разрушает торговлю и производство. Тактика и логистика, однако, меняются по мере хода научно-технического прогресса. Более того, они специфичны для каждого уголка земного шара: влияют разные культуры, ресурсы и технологии.
Продолжение следует.
Заканчиваем знакомиться с книгой Уильяма Дэвиса "Нервные состояния".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: цифровые гиганты строят нам концлагерь. Природа разрушается. Чтобы противостоять популистам, нужно пользоваться их оружием: эмоциями.
Цифровизация принесла множество инноваций. А что ещё ждёт нас! Основатель Фейсбука мечтает о тех временах, когда люди станут общаться путём цифровой коммуникации мозг-мозг. Так, чего доброго, люди превратятся в читабельные массивы данных без права на некий внутренний мир. Язык и мысли перестанут быть средством представления и деградируют до поведения, которое можно отследить. Вот только оборудование для слежки будет не у каждого. С какой целью будут его использовать - большой вопрос.
Можно представить себе такую степень развития цифровых технологий, при которой единственная функция человека будет иметь чувства, намерения и желания. Всё остальное - дело техники. Развитие ИТ продвигалось прежде всего в военных целях. Мы уже знаем, что военные не любят публичное знание и консенсус. Потому секретность у компаний Силиконовой Долины имеет много общего с военными идеалами эффективной координации на пути к победе. Реальная цель цифровых гигантов - предоставить инфраструктуру, через которую люди будут контктировать с физическим миром. Мы будем узнавать всё только у Гугля, общаться только через Фейсбук, перемещаться только через Убер и делать покупки только в Амазоне. Это даёт, конечно, возможность совершать мини-акты доминирования. Но и оставляет цифровой след. Который сохраняется и анализируется.
Техника, развитая для военных и на их деньги, делает возможность мирного консенсуса иллюзорными. Возможности мобилизации публики в то же время многократно возросли. Следствие: политические аргументы, высказанные онлайн, приводят к возникновению конфликтов. В этих конфликтах цель троллей - не добиться власти, а причинить страдания. Слово становится инструментом насилия. В пылу политических дискуссий становится невозможно сохранить независимую и объективную точку зрения. Интернет получился очень эффективным средством для подрыва устоявшихся институтов демократии, но не конструирования новых. Когда Цукерберг говорит: "Наш успех... состоит в строительстве сообщества, которое сохраняет нашу безопасность", это мало отличается от националистических проектов на основе общих фобий и ненависти.
Демократия масс эпохи радиовещания и телевидения заместилась выверенным потоком сообщений к целевым группам. Этот поток невидим для других. Скоро станет возможно добиться срабатывания у человека-приёмника эмоционального переключателя по желанию вещателя. Чтобы приёмник пошёл на выборы и сделал свой выбор надлежащим образом, например. Так технология может неожиданно стать инструментом насилия. Интернет уже служит прекрасным орудием саботажа.
Цифровые гиганты Силиконовой долины имеют нечто общее с фашизмом: стремление решить проблемы немедленно, не озаботившись никакими дебатами и обсуждениями. Подобная ментальность набирает популярность. В то же время старые интеллектуальные элиты (журналисты, эксперты, официальные лица) теряют влияние. Благополучная жизнь и низкое неравенство, быть может, сдержали бы эти тенденции. Но вряд ли бы обратили их. Мы находимся на перепутье.
В политике появился новый игрок. Это - сама природа. Она входит в нашу жизнь без приглашения, в то время, как естественные и общественные науки кишат проблемами. В свете этих проблем аудиторию сегодня нужно убеждать "смесью из экспертов и не-экспертов". В таких условиях прекрасно себя чувствуют конспирологи и лоббисты, подвергающие сомнению научный консенсус и пытающиеся "разоблачить" науку в целом.
Голые факты нас не спасут. Бравадо-рационализм а ля Пинкер-Докинз не имеет шансов. Элитные призывы к объективности уязвимы, ведь они игнорируют мощные силы, подрывающие философию знаний семнадцатого века. Индустрия идей с её культурой дебатов и спектаклей не способствует торжеству разума через согласие, а провоцирует распри. Свобода речи стала прикрытием для корпоративных лоббистов. Те называют экспертов лицемерами и подготавливают почву для торжества тролля и либертарианского мозгового центра. Большинство из нас уже не может отличить их альтернативную науку от настоящей. Как действовать учёному в таких условиях? Ждать, пока правда пробьёт себе дорогу? Нет шансов. Без вовлечения в политику ничего не получится. Но и в политике у экспертов не самые лучшие карты на руках.
Чтобы восстановить доверие к науке и знаниям и отбить атаку популизма, можно воспользоваться рецептами националистов. Стоить вспомнить, что они начинали революционерами левого толка. Сильные эмоции национализма базируются на стремлении к сообществу и народовластию. Даже война имеет определённый шарм, хоть и скорее воображаемый: она предлагает общность и совместные переживания. Национализм придаёт обыденной жизни значение и предлагает выход из гражданской жизни. Каждая отданная за нацию жизнь ценится, не забывается и регулярно чествуется. В отсутствие религии есть ритуалы и институты публичного признания и утоления боли.
В условиях гниющего государства, когда самооценка на дне, легко пасть жертвой лжеца. Автор предполагает, что когда грань между миром и войной стирается, метафора войны может помочь отмобилизовать общество. Например, на борьбу против изменения климата. Как участники народной мобилизации, эксперты должны выражать свои политические пристрастия и чувства более открыто. На самом деле, наука всегда сопровождалась моральным видением. В эпоху Антропоцена наука может получить новую, эмоциональную политическую роль.
Возглавить борьбу должно государство. Только закон может противостоять быстрому подъёму цифровой алгоритмической власти. Нужно поставить преграды для разрезвившихся цифровых гигантов. Нужно научиться делать простые, реальные и изменяющие жизнь обещания. Эти понятные меры способны разорвать цепь цинизма и недоверия. Может быть, "вертолётные деньги" и не сработали бы лучше, чем количественное смягчение. Но в ценном символизме ему не откажешь. (Идея автора относится к 2009 году, но, как мы видим, десяток лет спустя ей таки воспользовались. Вряд ли очень успешно.)
В заключение автор призывает признать равное человечество с общими страданиями. Простой призыв "Стоп, вы убиваете нас!" может привести к позитивному популизму. Опасности нашего мира не иллюзорны. Ультра-привилегированные элиты будут подгребать под себя ресурсы и плоды научного прогресса. Они будут защищены от природных бедствий и политических сдвигов и жить всё здоровее, доживая до 150, а то и 200 лет. Кто-то из низ сможет высадиться на Марсе, как мечтает Маск. Мечта либертарианца приводит к разделению научного и общественного прогресса. Надежда избежать такого будущего - в чувствах, переполняющих сегодняшнее общество. К ним надо прислушаться.
------------------------------
Глава про ИТ самая слабая. Много воды и мало идей. Озабоченность ростом могущества цифровых гигантов, изменением климата и неравенством - это всё давно не ново. Как не ново и стремление написать справедливые законы для ограничения монополий. Вот только в законодательной власти лоббистов - пруд пруди. Главная идея автора - эмоциональный учёный, снявший белый халат и выступающий на митинге. Вот, кто нас спасёт. Вы в это верите? Я - нет. Пандемия коронавируса наглядно это продемонстрировала. Учёные заняли места на трибунах, чтобы обосновывать локдауны и прочие ограничительные меры. Они играют на чувствах, прежде всего страха смерти. Многие верят. А многие - нет...
Продолжаем знакомиться с книгой Уильяма Дэвиса "Нервные состояния".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: военная тема пропитывает гражданскую жизнь. А на войне главное - быстрота информации, неважно, всё ли верно. И чтобы боевой дух был. Весьма похоже на современную политику. И на бизнес, живущий по либеральным рыночным законам, где выживает сильнейший.
В 2013 году начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов прочитал доклад на тему гибридных войн. Обращаясь к опыту Арабской весны, Герасимов указал на размывание состояния между миром и войной. На Западе доклад приняли за формулирование российской современной стратегии и назвали Доктриной Герасимова.
В самом деле, трудно отличить современный мир от войны. Военные действия требуют знаний, и эти знания отличаются от "мирных". В войне главное - победить, а не прийти к согласию. Чтобы этого добиться, нужно доставить необходимую информацию в нужные время и место. А также позаботиться, чтобы не было перехвата. Важную роль играют эмоции. Участие в бою требует агрессии, солидарности и веры в своё превосходство, а также расчеловечивания врага. Когда размывается грань между миром и войной, "боевые" эмоции проникают в общество. При этом не только теряется уважение к правде, но и правда сама становится политическим вопросом. Это усиливает несогласие и конфликты.
Современные войны опираются на мобилизацию масс. Первым этим стал заниматься Наполеон. Но он был практиком. Теорию создал его наблюдатель, Карл фон Клаузевиц. Этот прусский офицер сразу оценил огромную силу призывной армии, особенно когда она пропитана национальным духом. Наполеон уделял большое внимание не только баталиям, но и уничтожению вражеских коммуникаций и путей снабжения. Он был не только генералом, но и политиком. Размышляя над этим, Клаузевиц сформулировал самый известный свой тезис:
Война есть продолжение политики иными средствами.
Сегодня идеи Клаузевица живее всех живых. Военная тематика пропитывает гражданские культуру и политику. Война ведётся с террором, с наркотиками, в реальном мире и в киберпространстве. Публичная и экономические сферы всё больше организуются вокруг принципов конфликта, атаки и обороны. Информация в войну чрезвычайно важна. Её трудно получить и ей же рискованно доверять. Потому часто важнее скорость, чем точность. В таких условиях отношение к науке и экспертам в обществе меняется. Старый добрый идеал научного прогресса и требования военного времени оказываются в конфликте. Современная наука развивалась в связке с журналами, практиками цитирования и экспертными оценками. Уберём всё это - и получим уже что-то похожее на конспирологию.
По Клаузевицу, исход войны определяют три главных фактора: управление, военный элемент, а также эмоции. Чтобы физически разрушить врага, необходимо пропитать своих определённым эмоциональным духом. Ещё Наполеон говорил, что неважно то, что верно. А верно то, что у людей в головах. По мере роста деструктивного потенциала войны выросла и роль морального духа. Есть одна эмоция, которая, согласно Клаузевицу, может быть преобразована в военный ресурс: ненависть. Она появляется не после славных побед, а после разрушительных поражений. Потери формируют нашу идентичность и "печальное чувство ностальгии". Карл жаловался, что миролюбивые страны - это те, кто уже добились триумфа, и в этом - их слабость.
Скорость информации важна и в бизнесе. Там, где знание предоставляет конкурентное преимущество, научный идеал касательно общественного согласия по поводу фактов испаряется. В результате каждый накапливает и эксплуатирует свои собственные факты. Работать надо быстро и целенаправленно. Всё - по канонам свободного рынка. Который получил обоснование трудами австрийской школы экономистов.
Людвиг фон Мизес, а также его последователи питали глубокую антипатию к социалистическим идеям. Мизес даже до определённого времени видел фашизм допустимым средством для сопротивления красной угрозе. Он воспевал свободный рынок за его скорость и чувствительность, что приводит к тому, что каждый товар получает свою справедливую цену. Потому рыночная экономика работает лучше, чем плановая. Она быстрее реагирует на ситуацию. При ней плохие стратегии и технологии быстро банкротятся. Выживает сильнейший, как по Дарвину. Главное для предпринимателя - вовремя оценить, почувствовать и предсказать. То есть иметь правильную и своевременную информацию.
Ученик Мизеса Хайек развил эту идею. Информация, дающая конкурентное преимущество, должна признаваться как частная собственность. Иначе конкурентная игра предпринимательского капитализма не может продолжаться. Тот, кто пытается установить консенсус по поводу фактов, рискует впасть в социализм. Хотите узнать правду? Не обращайтесь к экспертам, а сами собирайте факты: говорите с людьми, предпринимателями, менеджерами. Нечего полагаться на конкретных учёных, нужно смотреть на всю систему, в которой научные концепции сталкиваются друг с другом. Для интеллектуалов либеральной школы, которые считали публичное знание социализмом, имело смысл создание частных сетей с политическими дискуссиями. Коммерческие университеты, частные мозговые центры и прочие консультанты разбивают "интеллектуальный картель экспертов", создавая нечто вроде рынка знаний.
Казалось бы, неплохая идея. Пусть правда пробивает себе дорогу, а лженаука окажется опровергнута. Проблема в том, что это стоит слишком много времени. Более того. Укоренение либеральных идей в экономике сопровождалось снижением потребности в центральных экспертных инстанциях. Но можно идти дальше и сказать, что не только эксперты не нужны, но и сама истина. Рынок - вот истина. Он всё разрулит. А государство - пусть лишь создаёт условия для честной конкуренции. При этом разум остаётся на обочине. Что рулит? Эмоции.
Задача человека - просто делать выбор. Он не должен быть основан на рациональности или каком-то объективном знании. По Хайеку выбор движим эмоциями и импульсом, а что правда, что ложь - рынок решит. Фактов нет, есть тренды и чувства. Путь университетов в век фактов реального времени - реагировать на изменчивый мир, а не искать причины, глядя в корень происходящего. Апофеозом звучит мнение Хайека:
Знание и неведение - относительны.
Проблема в том, что этот радикальный интеллектуальный эгалитаризм не имеет ничего общего с равноправием. Идеология свободного рынка организующим принципом общества делает социал-дарвинизм. Это приводит к раскручивании спирали неравенства. С перспективы либертарианства единственное социальное разделение, что имеет значение - это пропасть между узким меньшинством предпринимателей-визионеров и миллионами подконтрольных им тел. Сегодня влиятельные семьи и частные компании добились неслыханной концентрации богатства, встав в один ряд с акционерным и государственным капиталом. Жизнь в этом дарвиновом мире дискомфортна для всех, включая победителей. Sic transit gloria mundi - это знал и Наполеон. Боязнь смерти вынуждает их накапливать всё больше и больше. Психология...
Окончательным пунктом назначения австрийской идеологии является система, которая уничтожит рынок. Частные империи будут сражаться друг с другом, используя атрибуты, которые присущи не бизнесу, но государствам. Они уже сегодня летают в космос, регулируют рынки и ведут разведку. Новые участники входят в борьбу за право стать олигархами-императорами. Эпицентром борьбы за власть становится Силиконовая долина. О ней - в заключительной части.
-----------------------------
Типичный западный подход. Напридумывать самых разношёрстных причин, которые могут объяснить снижение доверия к науке - и набросать всё в кучу. Это плохо укладывается в голове. При всей весомости доводов всё же остаётся вопрос: Клаузевиц, Мизес и Хайек уже давно в могиле, а доверие к науке упало только в третьем тысячелетии. Что же мешало ему падать раньше?
Продолжаем знакомиться с книгой Уильяма Дэвиса "Нервные состояния".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: Наука помогает обществу двигаться вперёд. Но недостатки и злоупотребления снижают доверие, и люди бегут за популистами. Особенно когда жрать нечего и со здоровьем нелады. Чувство локтя в боевом коллективе многих если не излечит-исцелит, то хоть бы поможет перенести невзгоды.
Казалось бы, сухая и скучная наука - статистика. Мы вынуждены ею заниматься, чтобы не потерять основу для согласия и мира в обществе. Увы, сегодня для многих в обществах Запада она видится служанкой интересов элит, которая предоставляет версию реальности в интересах привилегированных культурных групп. Автор признаёт, что частично в падении авторитета науки виноваты сами технократы, которые "растягивают и сгибают" цифры в угоду политике. Сыграло свою роль и подозрение, которое вызвало участие по идее независимых технократов в политических кампаниях. Кристин Лагард, например, впряглась в ряды агитаторов Брекзит-референдума, убеждая британцев остаться в Евросоюзе. Впечатляющие провалы научного прогнозирования, будь то расчёт риска для облигаций (который послужил одной из причин кризиса 2008 года) или прикидка шансов на успех Брекзита и Трампа - доверия к сообществу экспертов не добавили.
Чтобы понять, что случилось, Уильям заныривает в историю. Вообще, он любит этим заниматься. Он уже рассказал про Гоббса, Перри и Декарта (который разграничил тело и разум). Теперь очередь дошла до Джона Граунта. Этот успешный мануфактурщик был знаком с Перри, и имел страсть к цифрам. И нашёл сферу приложения своей страсти, суммируя случаи смерти из записей лондонских приходов. На основе временного промежутка в семидесят лет он вычислил вероятность смерти для определённого возраста, а значит - и продолжительность жизни. После публикации Королевское общество пригласило его в свои ряды. Но успех был не только академический. Результаты первого в мире демографа имели конкретный практический интерес. Ведь каждый суверен, планируя военную компанию, должен иметь возможность прикинуть, сколько граждан он сможет поставить под ружьё. А ещё нужно оценивать способность нации создавать богатство, с которого потом будет уплачен налог в казну. Так с помощью демографии человеческое общество обзавелось определённой предсказуемостью. Но если мы смотрим на общество, как на машину, то и каждая его частичка должна работать предсказуемо. ( Не согласен! И в хаосе находят порядок.)
Недельный листок смертности в Лондоне 1665 года.
Национальная статистика может рассказать, становится ли страна богаче, растёт ли её население, и как обстоят дела с торговлей. Она позволяет нам отследить путь прогресса от прошлого с его неведением и предрассудками в будущее со свободой и разумом. Числа позволяют нам видеть мир объективно. Но обратной стороной монеты является их бесчувственность. Мы оказываемся в плену цифр, стремясь к их непрестанному улучшению. Разумеется, этим пользуются недобросовестные политики, производя статистику, служащую их интересам. Эти манипуляции до поры до времени остаются незамеченными, но, накапливаясь, ведут к кризису экспертизы.
Если взглянуть на официальную статистику США - всё в шоколаде. Чего не скажешь о жизни рядового американца. Часть ответа кроется в неравенстве. Суммарные цифры скрадывают картину. Миллиардеры продолжают богатеть, в то время, как половина населения не испытывает экономического прогресса вот уже сорок лет. Неравенство имеет и географическое измерение с его депрессивными регионами Среднего Запада и Юга и процветающими побережьями. Та же фигня в Британии. Короче, прогресс для кого-то ускорился, а для кого-то - исчез. Перемены в экономической географии способствуют возрождению национализма. Можно сколько угодно говорить о благотворности торговли, но у процесса глобализации есть конкретные проигравшие, и таковых много. Иммигранты восхваляются с их позитивным вкладом в экономику. Но они же конкурируют за рабочие места с бедняками-аборигенами. Итогом такого расхождения между благостными картинками экономической прессы и незавидными перспективами очень многих является падение доверия к "цифровому правительству экспертов".
Это ценное наблюдение автора. Но тогда получается, что Трамп и Брекзит - вполне заслуженные явления. Можно сколько угодно говорить о недостатках статистики, что она не принимает в расчёт чувства и просто рассортировывает людей по категориям. Главное, что продвигает популистов - это падение благосостояния народных масс.
К экономической элитарности добавляется элитарность культурная. Образованная элита зарабатывает головой, извлекая пользу из экономики знаний. Самооценки работяге с кувалдой это явно не добавляет. Депрессивные регионы с горами ржавого оборудования не просто так именуются депрессивными. В то же время политика становится изолирована от основных инстинктов, касающихся несправедливости, наказания, страха и безопасности. Технократы на них внимания не обращают, но они есть.
Автор пишет, что внесение эмоций в политику вызывается ещё одним важным феноменом: ухудшением физического состояния. Человеческое тело стало объектом для альтернативных моральных, эмоциональных и политических перспектив. Но люди всё меньше хотят отдавать проблемы со своим здоровьем для решения научным сообществом.
Когда-то давно со здоровьем была беда. Было обычным делом давать имена умерших детей новорожденным, да ещё заставлять их носить оставшуюся одежду. Люди утешались религией и видели болезни и смерть наказанием за грехи. На закате Научной Революции Френсис Бэкон сформулировал новое видение:
Во-первых, сохранение здоровья, во-вторых, излечение от болезней, и в-третьих, продление жизни.
С помощью науки и техники дело быстро пошло на поправку. Декарт провозгласил раздельность разума и тела, сделав последнее объектом для исследования. Падение табу на вскрытие трупов ускорило прогресс медицины. Мы стали отказываться от определённых ритуалов и верований во имя продления нашей жизни. И если сегодня кто-то идёт в обратную сторону, то это говорит о том, что правительства и эксперты не сдерживают своих обещаний здоровья и долголетия. Трамп - президент больных и немощных, это факт. Растущая смертность белых среднего возраста, а также в депрессивных регионах - тоже факт. Так же и в Британии с Брекзитом. Меры бюджетной экономии ударили по здоровью населения и в южной Европе.
Если человек болен - у него и настроение плохое. Боль действует через психосоматику. Далее, потребительская ментальность, которая требует полного удовлетворения, делает боль менее выносимой. Если раньше доктора не очень беспокоились о "качестве жизни" пациента, то, начиная с шестидесятых, облегчение боли стало моральной обязаностью. Сегодня уже никто не говорит, подобно святошам, об исцеляющей, дисциплинирующей силе боли.
Следствием этого процесса стало широкое распространение опиатов в медицине. В период с 1980 по 2011 годы их стали выписывать в 35 раз больше, при этом 90% - в развитых странах. Параллельно учёные стали понимать, что тело и разум - всё-таки связаны через боль. Как становятся связаны и медицина с политикой. Физическое здоровье перетекает в эмоции, которые выбрасываются в общество.
В состоянии постоянной опасности наши нервы привыкают. При стрессе адреналин в крови заставляет нас реагировать по типу бей или беги. Когда всё кончилось, в кровь попадает кортизол, который восстанавливает нормальное состояние. Однако, если стресс очень сильный или очень частый, тело привыкает и не выделяет кортизол, как обычно. Человек живёт, как будто на пороховой бочке. Это называется ПТСР. При нём человек уже не стремится к здоровью и благосостоянию. Людей с ПТСР можно встретить в среде ветеранов. Но его можно часто встретить и у обычных людей. Можно даже иногда обнаружить, отняв смартфон у человека. Среди причин автор называет экономическое неравенство и чувство безвыходности. В таком состоянии люди могут обратиться к авторитаристам за решением.
Решением для многих служат опиаты. Наркоман не чувствует бессилия во время приёма, и это имеет значение. Его и боль и травма для него в этот момент под контролем. В период между 1999 и 2017 годами от их передоза умерло свыше 200 тысяч американцев: более чем втрое больше, чем во Вьетнаме. Уильям говорит нам в этой связи:
Есть нечто хуже боли, и это - полная потеря контроля.
Многие предпочитают быть причинителем вреда, чем жертвой, даже если вред причиняется себе самому.
Страдающий человек ищет понимания и сочувствия. Популисты помогают преобразовать страдания в ненависть. В воображении националиста война предлагает чувство общности и эмоциональной эмпатии, которые не найдёшь при мире и демократии. Она принесёт всё: признание, объяснение и поминовение. Одним из парадоксов национализма является то, что национальное сознание разжигается образами не столько героических побед, сколько трагических поражений. Ранение, полученное в бою, не так болит, как производственная травма. Война привлекает тем, что в ней чувства имеют значение.
------------------------
Изложено увлекательно, но неубедительно. Объяснить рост популизма недостатками статистики - это что-то новое. Ещё и историю науки приплёл неизвестно почему. На самом деле не недостатки, а манипуляции - вот, что вызывает протесты. Виноваты не учёные, которые якобы не могут рассчитать инфляцию, как надо. А политики, вносящие правила, снижающие её цифры. Эти манипуляции приукрашивают действительность. Когда действительность эта для многих мрачна - то и депрессия, и стресс, и болезни - всё это приходит. Люди ищут выход - и находят его. Ничего нового.