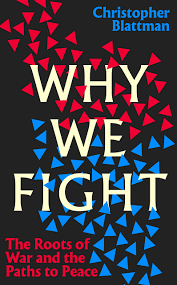Почему мы дерёмся (4)
Заканчиваем знакомиться с книгой Кристофера Блэттмана "Почему мы дерёмся".
Ссылки на предыдущие части: 1 2 3
Коротко для ЛЛ: наводить порядок в стране можно и извне, методом кнута и пряника. Но миротворчество, увы, не гарантия решения проблем. Задача миротворца нелегка, путь его нелёгок и тернист. Даже маленький успех - это успех. Делая маленькие шаги - далеко зайдёшь.
Рецепт миротворчества номер четыре: вмешательство со стороны. Здесь у миротворца выбор из нескольких альтернатив: наказание (кнут), стимулирование (пряник), принуждение, информационная поддержка, социализация и содействие.
Касательно кнута, у автора любимый пример: финансовые санкции против поджигателей войны. Так делал его знакомый с южносуданскими олигархами, побуждая госорганы замораживать их капиталы. Олигархи стали слабее, и они вне себя. Они не приглашают его, как бывало, на чай. Подобным образом городские власти в США и Колумбии делают плохо главарям преступных картелей, когда те переходят красные линии, требующие, как правило, ограничения убийств. Это называют также "условными репрессиями". Успех таких мероприятий, пожалуй, ограниченный. Да и трудно его посчитать. Мы же не знаем, как сложились бы дела, не будь их. Эта тема остаётся скорее привлекательной идеей, чем испытанной стратегией.
Принуждение к миру - это то, ради чего в страну засылают миротворческие контингенты. Как правило, ситуация в проблемных странах чревата повторным возгоранием войны. Любое лишнее убийство может начать всё сначала. Миротворцы могут быстро справиться с невооружённой толпой, ограничить стимулы для необузданных элит, установить радиостанции, контролировать соблюдение договорённостей враждующими сторонами а также принудить к самим договорённостям. Их эффективность далеко не всегда высока. Но в целом эффект положительный. В общем, они делают ужасные ситуации немножко лучше. Автор считает, что не надо от них отказываться.
Содействие может принимать разные формы. Это и обеспечение площадки для переговоров, и посредничество, и даже обучение враждующих сторон в целях улучшения их договороспособности. Содействие независимых посредников помогло, например, договориться IRA и британским властям, чтобы закончить многолетний конфликт в Северной Ирландии.
Обучение может содержаться также в социализации, в процессе которой стороны учатся распознавать свою предвзятость, прислушиваться к словам врага и пытаться понять его точку зрения. И даже контролировать свой гнев. Некоторые социологи называют это "цивилизующим процессом". А выглядит это порой почти как КПТ. А почему бы и нет, если оно работает? Если число убийств и вообще преступность - падает? Автору известны с США многие активисты, которые целенаправленно работают с преступниками подобными методами, помогая им становиться нормальными людьми. В целом, мир можно назвать результатом социализации.
У поощрения, при котором большие и маленькие главари группировок получают немалые суммы, хватает критиков. Это практиковалось в Афганистане, в бывших советских республиках, в африканских странах. Результат, кстати, не стопроцентный, хоть и не нулевой. Есть ещё проблема: подобные методы делают элиты ещё более необузданными. Баланс пользы и вреда - неустойчив. Причём польза чаще всего лишь кратковременная, в отличие от.
Это всё - методы, в которые верит автор. Но есть и другие, ненадёжные, к которым он сохраняет скептицизм. Например, к продвижению женщин на руководящие посты. Да, на индивидуальном уровне они, пожалуй, менее агрессивны. Да, исторически война - дело мужчин. И даже эмансипация имела, быть может, одним из результатом, продвижение мира, поскольку она уменьшает дисбаланс в политике. Но сложив индивидуальные чувства - не получишь групповое действие. Группа политологов сравнила данные 120 лет политического лидерства и пришла к выводу, что страны, которыми руководили женщины, не реже других начинали войны. А королевы вообще на 40% больше воевали, чем короли. Правда, часть "заслуги" лежит на их врагах, желающих воспользоваться кажущейся слабостью соседа. Но лишь часть.
Ещё одна сомнительная идея - покончить с бедностью. Тогда и войны уменьшатся. Казалось бы. Однако механизм здесь непростой. Если война уже идёт - тогда да, бедность позволяет её продлиться, ведь народ, потерявший работу, подаётся в солдаты. Но вот на предотвращение войны материальный достаток, похоже, не влияет.
Автор не верит и в высокий процент молодёжи как фактор вероятности войны. Статистика этого не подтверждает. Также не была найдена связь и с устойчивостью и числом этнических идентичностей. Да и влияние изменения климата на конфликты - пока что остаются чисто гипотетическими. Воды не хватает повсюду, а войны случаются лишь кое-где. Тем не менее, на более низком, индивидуальном уровне, современные горячие деньки могут усилить агрессию.
В конце главы автор занимается вопросом: может стоит иногда дать сторонам повоевать как следует, чтобы одна сторона убедительно победила, сделав будущие конфликты менее вероятными? Некоторые идут дальше и задумываются об очищающей силе конфликтов. И даже о том, что из войны выросли современные государства. На все эти соображения можно ответить, что они игнорируют страдания людей. Далее, не факт, что война вообще улучшит стабильность, равенство или силу государства. Достаточно отрицательных примеров. И в-третьих, не стоит путать войну с соперничеством. Которое действительно может двигать вперёд. Но при нём нет таких разрушений. Наконец, надо не забывать успехи стабильности, равенства и государственного строительства в мирное время. Особенно после окончания Второй мировой войны, когда рухнула колониальная система, а ООН выросла с 51 до 193 государств-членов. Но лучшим примером служит улучшение гражданских прав, которое медленно, но неуклонно, продолжается на протяжении трёх сотен лет. Элиты, видя, что им придётся несладко, делали уступки раз за разом. Что это происходило не всегда и не всюду - автор, увы, не упоминает. Вот и ушла Великая Октябрьская социалистическая революция из памяти современников.
Заканчивается книга десятью заповедями миротворца: различай легкие и трудные проблемы, не верь в великие планы и лучшие практики, не забывай, что всюду есть шкурный интерес, иди малыми шажками, работай методом проб и ошибок, не бойся неудач, будь терпелив, ставь осязаемые цели, будь подотчётен и знай свои сильные стороны.
-----------------------------
Заметно, что книгу писал не историк, но практически настроенный специалист. Он ясно видит, что успех миротворческих мероприятий не гарантирован. Но, к сожалению, не задумывается почему. А потому, что он не верит в объективные предпосылки конфликтов. Можно долго жить на бочке с порохом, а потом захотеть закурить. Виноватой у нашего автора окажется сигарета. Что ж, если альтернативного места для проживания нет, то так оно и есть...
А если есть, то следует озаботиться устранением основы для конфликта, к которым относится и бедность, например. Гитлер пришёл к власти после банкротства крупнейших немецких банков, в результате которого миллионы немцев оказались за чертой бедности и проголосовали за того, кто предложил лёгкое решение проблем.
С другой стороны, одной из глубоко лежащих причин войн являлось и является имперское мышление. Мышление это в виде национализма присуще и большим, и малым странам. На мой взгляд, оно - и есть та самая пороховая бочка. И если от него нельзя избавиться, то так и придётся вечно полагаться на половинчатые решения, предлагаемые автором. Окончательным выходом из ситуации будет - убедить критическую массу людей, что все они - братья. Титаническая задача. Но решать её надо.