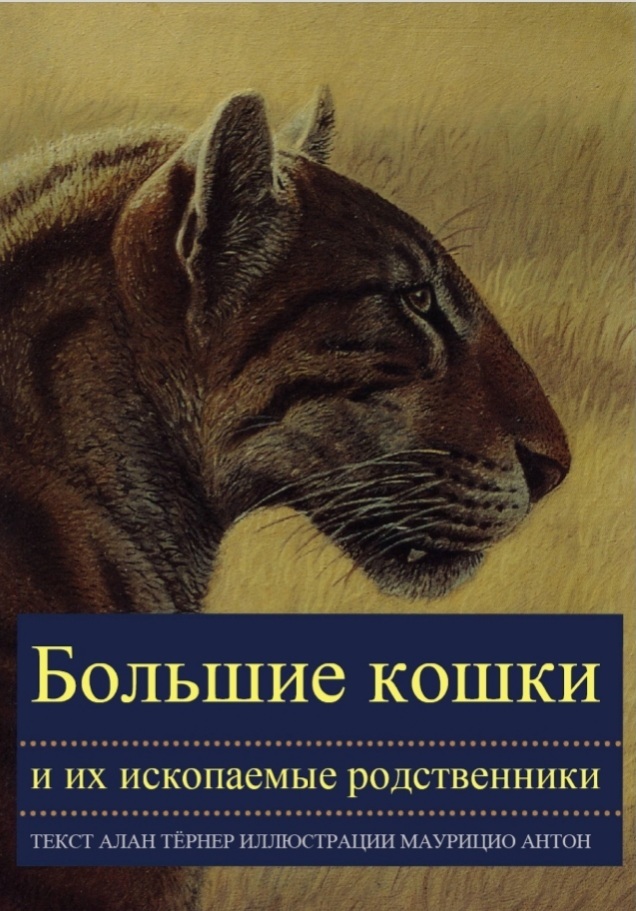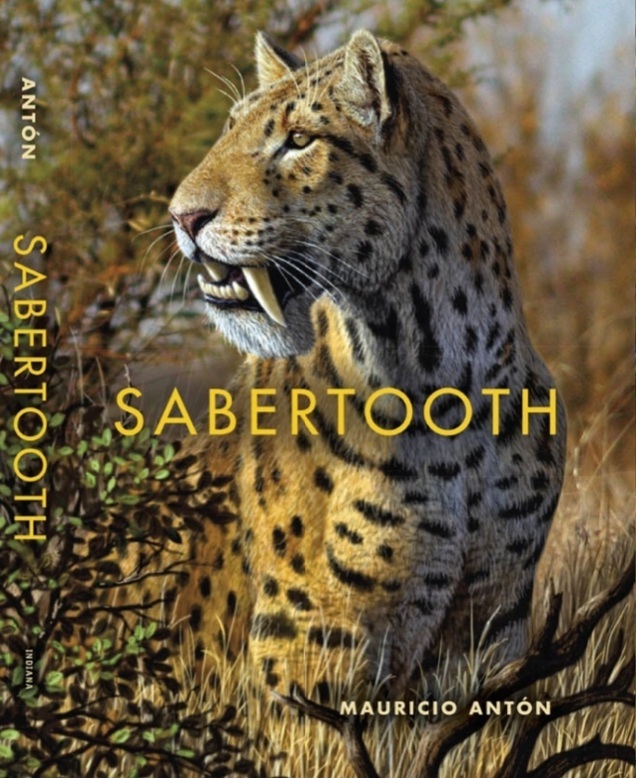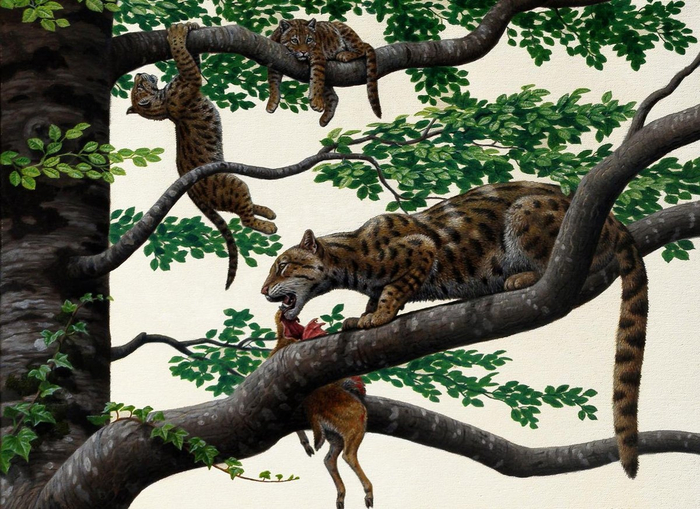Одна из теорий, на которой строются интеллектуальные конструкции наглов - это теория эволюции. Её создатель, Чарльз Дарвин, сам англичанин. Как мне кажется, в России теорию эволюции приняли к сведению и как бы потеряли интерес. А зря. Наглы развивали и развивают её дальше, их успехи в манипулировании основаны также на теориях эволюции.
Ричард Докинз: Расширенный фенотип
.. Одна из особенностей жизни в этом мире, которую, подобно сексу, мы принимаем как данность, но, возможно, не должны, заключается в том, что живая материя заключена в отдельные упаковки, называемые организмами. В частности, биологи, интересующиеся функциональными объяснениями, обычно исходят из того, что отдельная особь является подходящей единицей для анализа. Для нас «конфликт» обычно означает конфликт между организмами, в котором каждый стремится максимизировать свою собственную «приспособленность». Мы признаём существование более мелких единиц, таких как клетки и гены, и более крупных — таких как популяции, сообщества и экосистемы, но нет сомнений, что отдельный организм, как дискретная единица действия, оказывает мощное влияние на умы зоологов, особенно тех, кто изучает приспособительное значение поведения животных. Одна из моих целей в этой книге — ослабить эту хватку. Я хочу сместить акцент с отдельного организма как центральной единицы функционального анализа. По крайней мере, я хочу заставить нас осознать, как много мы принимаем как данность, когда смотрим на жизнь как на собрание отдельных индивидуальных организмов.
Тезис, который я буду отстаивать, таков. Допустимо говорить, что адаптации существуют «ради пользы» чего-либо, но этим чем-то лучше считать не отдельный организм. Это единица меньшего масштаба, которую я называю активным, зародышевым репликатором. Важнейший вид репликатора — это «ген» или небольшой генетический фрагмент. Репликаторы, конечно же, отбираются не напрямую, а опосредованно; их оценивают по их фенотипическим эффектам. Хотя для некоторых целей удобно считать эти фенотипические эффекты упакованными вместе в дискретных «контейнерах», каковыми являются отдельные организмы, в фундаментальном смысле в этом нет необходимости. Вместо этого репликатор следует рассматривать как имеющий расширенные фенотипические эффекты, включающие все его воздействия на мир в целом, а не только эффекты на тот индивидуальный организм, в котором ему довелось находиться….
...моей самой смелой мечтой... является то, что целые области биологии — изучение коммуникации животных, создаваемых ими артефактов, паразитизма и симбиоза, экологии сообществ, да и вообще все взаимодействия между организмами и внутри них — в конечном счёте будут освещены по-новому благодаря доктрине расширенного фенотипа.
До сих пор мы рассматривали среду как статистически сложную и, следовательно, трудную для предсказания. Мы не рассчитывали, что она может быть активно враждебной с точки зрения нашего животного. Ветви деревьев, конечно, не ломаются умышленно со злости, когда обезьяны забираются на них. Но «ветвь» может оказаться замаскированным питоном, и последняя ошибка нашей обезьяны оказывается тогда не несчастным случаем, а, в некотором смысле, результатом умышленного замысла. Часть среды обитания обезьяны является неживой или, по крайней мере, безразличной к её существованию, и ошибки обезьяны можно списать на статистическую непредсказуемость. Но другие части среды обитания обезьяны состоят из живых существ, которые сами приспособлены извлекать выгоду за её счёт. Эту часть среды обитания обезьяны можно назвать враждебной. Враждебные влияния среды сами по себе могут быть трудны для предсказания по тем же причинам, что и безразличные, но они несут в себе дополнительную угрозу; они создают дополнительную возможность для жертвы совершить «ошибку». Ошибка, совершаемая малиновкой, когда она выкармливает кукушонка в своём гнезде, предположительно, в некотором смысле является неадаптивным промахом. Это не единичное, непредсказуемое событие, подобное тем, что возникают из-за статистической непредсказуемости невраждебной части среды. Это повторяющийся промах, поражающий поколение за поколением малиновок, и даже одну и ту же птицу — многократно на протяжении её жизни. Подобные примеры всегда заставляют нас удивляться покорности — в масштабах эволюционного времени — организмов, которыми манипулируют в ущерб их собственным интересам. Почему же отбор просто не устраняет восприимчивость малиновок к обману со стороны кукушек? Подобного рода проблемы, я уверен, однажды станут основным предметом новой субдисциплины биологии — изучения манипуляции, гонок вооружений и расширенного фенотипа.
4. Гонки вооружений и манипуляция
Одна из целей этой книги — поставить под сомнение «центральную теорему» о том, что полезно ожидать от отдельных организмов поведения, направленного на максимизацию их собственной совокупной приспособленности, или, другими словами, на максимизацию выживания копий генов, находящихся внутри них. В конце предыдущей главы предлагается один из возможных способов, которым центральная теорема может нарушаться. Организмы могут последовательно действовать в интересах других организмов, а не в своих собственных. То есть они могут быть «манипулируемыми».
Тот факт, что животные часто заставляют других животных совершать действия, противоречащие их собственным интересам, конечно, хорошо известен. Очевидно, это происходит каждый раз, когда рыба-удильщик ловит добычу, каждый раз, когда кукушонка кормит его приёмная мать. В этой главе я буду использовать оба этих примера, но также сделаю акцент на двух моментах, которым не всегда уделялось достаточно внимания. Во-первых, естественно предполагать, что даже если манипулятору временно это сходит с рук, это лишь вопрос эволюционного времени, пока родословная манипулируемых организмов не выработает контр-адаптацию. Другими словами, мы склонны предполагать, что манипуляция работает лишь благодаря «временному лагу» — ограничению, не позволяющему достичь совершенства. В этой главе я, напротив, укажу на то, что существуют условия, при которых нам следует ожидать, что манипуляторы будут добиваться успеха стабильно и на неограниченно долгие эволюционные сроки. Позже я рассмотрю это под рубрикой «гонки вооружений».
Во-вторых, вплоть до последнего десятилетия или около того, большинство из нас уделяло недостаточно внимания вероятности внутривидовой манипуляции, в особенности эксплуататорской манипуляции внутри семьи. Я объясняю этот недостаток остатками интуиции группового отбора, которая часто скрывается в глубинах сознания биологов даже после того, как групповой отбор был отвергнут на поверхностном уровне разума. Я считаю, что в нашем понимании социальных отношений произошла малая революция. «Благородные» (Lloyd 1979) представления о некоем благосклонном взаимном сотрудничестве сменились ожиданием суровой, безжалостной, оппортунистической взаимной эксплуатации. …
Животному часто необходимо манипулировать объектами в окружающем его мире. Голубь переносит ветки к своему гнезду. Каракатица сдувает песок со дна моря, чтобы обнажить добычу. Бобр валит деревья и с помощью своей плотины преобразует весь ландшафт на мили вокруг своего жилища. Когда объект, которым животное пытается манипулировать, является неживым или, по крайней мере, не обладает самодвижением, у животного нет иного выбора, кроме как переместить его грубой силой. Навозный жук может сдвинуть шар навоза, только активно толкая его. Но иногда животное может извлечь выгоду, переместив «объект», которым оказывается другое живое животное. Этот объект обладает своими собственными мышцами и конечностями, управляемыми нервной системой и органами чувств. И хотя переместить такой «объект» грубой силой всё ещё возможно, желаемого результата зачастую можно добиться более экономичным путём — с помощью более тонких средств. Внутренняя цепь команд объекта — органы чувств, нервная система, мышцы — может быть инфильтрирована или в неё можно внедриться. Самец сверчка не перекатывает самку физически по земле в свою нору. Он сидит и поёт, и самка приходит к нему по собственной воле. С его точки зрения, такая коммуникация энергетически эффективнее, чем попытка взять её силой.
Сразу возникает вопрос. Почему самка должна это терпеть? Раз она контролирует свои мышцы и конечности, почему она должна подходить к самцу, если это не в ее генетических интересах? Конечно, слово «манипуляция» уместно только в том случае, если жертва не желает этого? Конечно, самец просто сообщает самке факт, который ей полезен, что здесь находится готовый и желающий самец ее собственного вида. Сообщив ей эту информацию, разве он не оставляет тогда на её усмотрение — приближаться к нему или нет, как ей угодно или как её запрограммировал естественный отбор?
Что ж, это прекрасно, когда у самцов и самок случайно оказываются идентичные интересы. Но давайте исследуем предпосылку предыдущего абзаца. Что даёт нам право утверждать, что самка «контролирует свои собственные мышцы и конечности»? Не предполагает ли это заранее тот самый вопрос, который нас интересует? Выдвигая гипотезу манипуляции, мы, по сути, предполагаем, что самка, возможно, не контролирует свои собственные мышцы и конечности, а контролирует ими самец. Этот пример, конечно, можно обратить, сказав, что самка манипулирует самцом. Высказанная мысль не имеет конкретной связи с сексуальностью. Я мог бы использовать пример растений, которые, не имея собственных мышц, используют мускулатуру насекомых в качестве эффекторных органов для транспортировки своей пыльцы, снабжая эти мышцы топливом в виде нектара (Heinrich 1979). Общий вывод заключается в том, что конечности одного организма могут быть манипулируемы для работы в интересах генетической приспособленности другого организма.
Существуют различные техники, которые хищник может использовать для поимки добычи. Он может преследовать их и пытаться обогнать, перетерпеть или обойти с фланга. Он может сидеть на одном месте и подстерегать их в засаде или ловить в ловушку. Или же он может поступить так, как это делают рыба-удильщик и светлячки-«femmes fatales» (Ллойд, 1975, 1981), — манипулировать нервной системой самой жертвы так, чтобы она сама активно приближалась к своей гибели. Рыба-удильщик сидит на морском дне и превосходно замаскирована, за исключением длинного стержня, торчащего у неё на макушке, на конце которого находится «приманка» — гибкий кусочек ткани, напоминающий какой-нибудь аппетитный кусочек, вроде червя. Мелкие рыбы, добыча удильщика, привлекаются приманкой, которая напоминает их собственную добычу. Когда они приближаются к ней, удильщик «заигрывает» с ними, подманивая к окрестности своего рта, затем внезапно разевает челюсти, и жертва оказывается поглощена хлынувшей внутрь водой. Вместо того, чтобы использовать массивные мышцы тела и хвоста для активной охоты на добычу, рыболов использует небольшие экономичные мышцы, управляющие его удочкой, чтобы возбудить нервную систему добычи через ее глаза. В конце концов, рыболов использует собственные мышцы добычи, чтобы сократить расстояние между ними. Кребс и я неофициально охарактеризовали «коммуникацию» животных как средство, с помощью которого одно животное использует мышечную силу другого животного. Это примерно синоним манипуляции.
Возникает тот же вопрос, что и прежде. Почему жертва манипуляции мирится с этим? Почему рыба-жертва буквально бросается в пасть смерти? Потому что она «думает», что на самом деле бросается, чтобы сама получить пищу. Если выражаться более формально, естественный отбор действовал на её предков, благоприятствуя склонностям приближаться к мелким извивающимся объектам, потому что мелкие извивающиеся объекты обычно являются червями. Поскольку они не всегда являются червями, но иногда оказываются приманками удильщика, вполне может идти отбор среди рыб-жертв, благоприятствующий осторожности или обострению их способности к распознаванию. Поскольку приманки являются хорошими имитаторами червей, мы можем предположить, что отбор действовал на предков удильщиков, чтобы усовершенствовать их, в ответ на возросшую разборчивость их добычи. Некоторая добыча всё же попадается, и удильщики продолжают существовать, а значит, некая манипуляция успешно осуществляется. Удобно использовать метафору гонки вооружений всякий раз, когда мы наблюдаем прогрессивные улучшения адаптаций в одной эволюционной линии как ответ на прогрессивные контр-улучшения в эволюционной линии её противника. Важно понимать, кто именно является сторонами, «состязающимися» друг с другом. Ими являются не особи, а эволюционные линии. Безусловно, особи — это те, кто атакует и защищается, те, кто убивает или сопротивляется убийству. Но гонка вооружений происходит в эволюционном масштабе времени, а особи не эволюционируют. Эволюционируют именно эволюционные линии, и они же демонстрируют прогрессивные тенденции в ответ на давление отбора, создаваемое прогрессивными улучшениями в других эволюционных линиях. Одна эволюционная линия будет иметь тенденцию к развитию адаптаций для манипуляции поведением другой эволюционной линии, затем вторая эволюционная линия будет развивать контр-адаптации. Нас, очевидно, должны интересовать любые общие закономерности, определяющие, может ли одна или другая эволюционная линия «победить» или обладает ли она врождённым преимуществом.
Во-первых, что значит говорить, что одна или другая сторона «побеждает»? Означает ли это, что «проигравший» в конечном счёте вымирает?
Иногда это может происходить.
На самом деле, нет никакой необходимости «проигравшей» линии в гонке вооружений вымирать. Может оказаться так, что «победитель» является настолько редким видом, что представляет относительно ничтожный риск для особей вида-«проигравшего». Победитель побеждает лишь в том смысле, что его адаптации против проигравшего не встречают эффективного противодействия. Это хорошо для особей линии-победителя, но может быть не слишком плохо для особей линии-проигравшего, которые, в конце концов, одновременно участвуют в других гонках против других линий, возможно, и весьма успешно.
Фундаментальные асимметрии, такие как принцип «жизнь/обед» и эффект редкого врага, позаботятся о том, чтобы многие гонки вооружений достигали стабильного состояния, в котором животные с одной стороны постоянно работают на пользу животным с другой стороны и в ущерб себе; работают усердно, энергично, безрассудно против своих собственных генетических интересов.
Когда мы видим, что представители вида последовательно ведут себя определённым образом ... мы склонны чесать в затылке и гадать, как это поведение повышает совокупную приспособленность животного. ... Вывод этой главы заключается в том, что нам, возможно, стоит вместо этого спросить, чью именно совокупную приспособленность это поведение повышает!
Рекомендую все книги Докинза про гены и эволюцию. Во первых они сами по себе чрезвычайно интересны, во вторых это обязательное чтение что бы понять наглов.