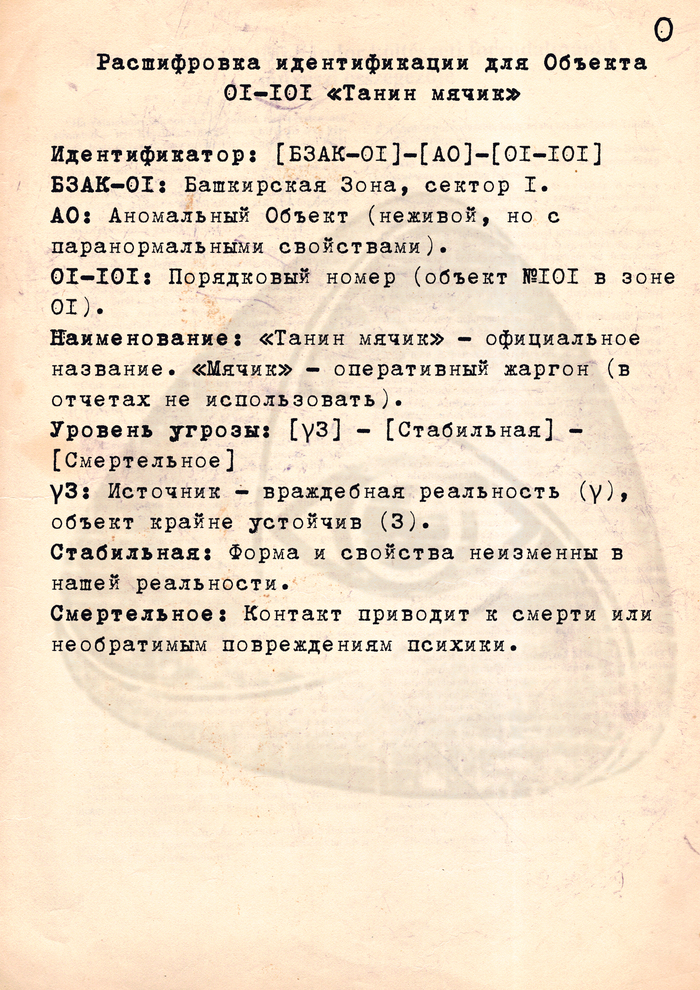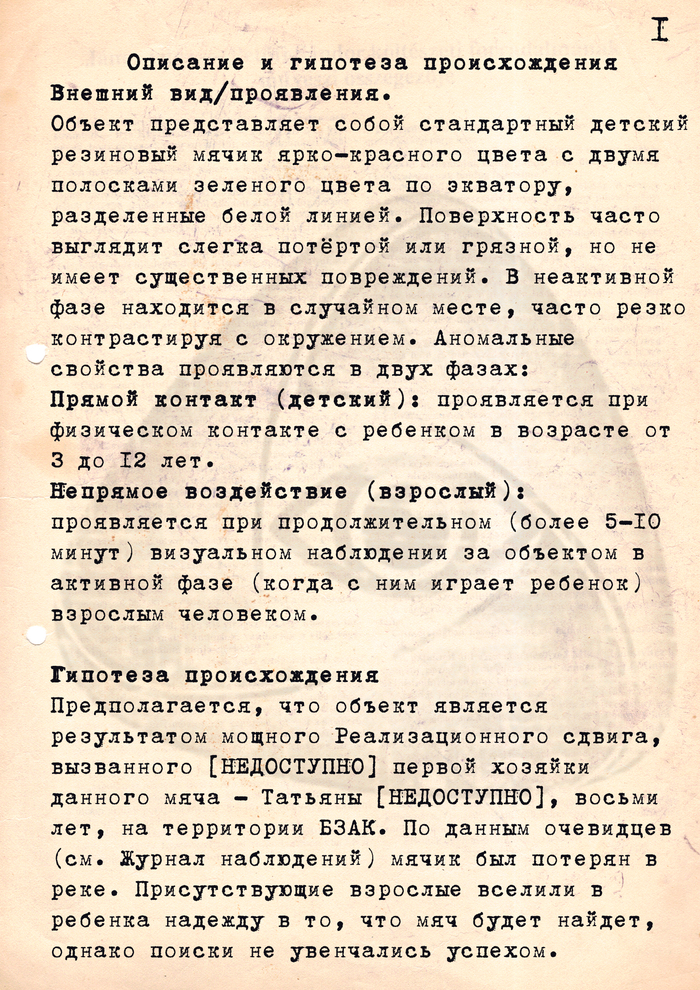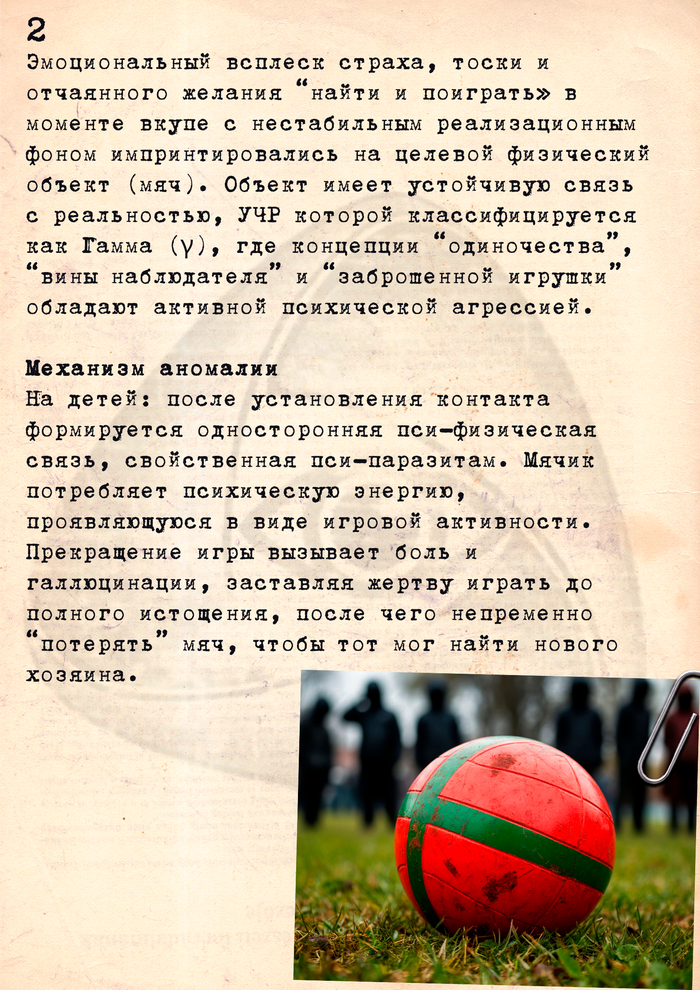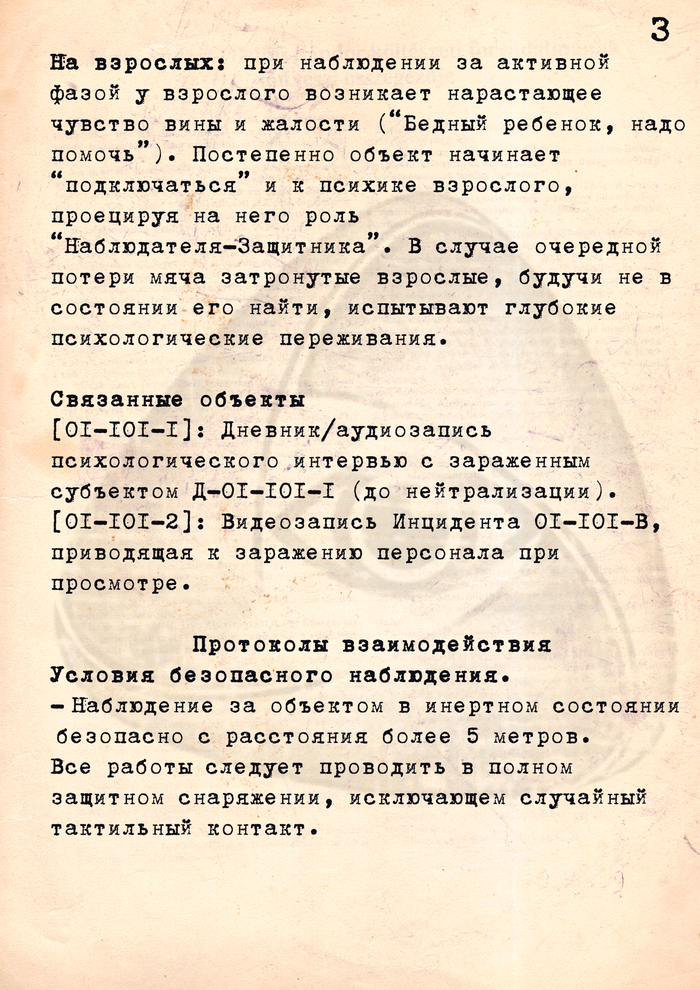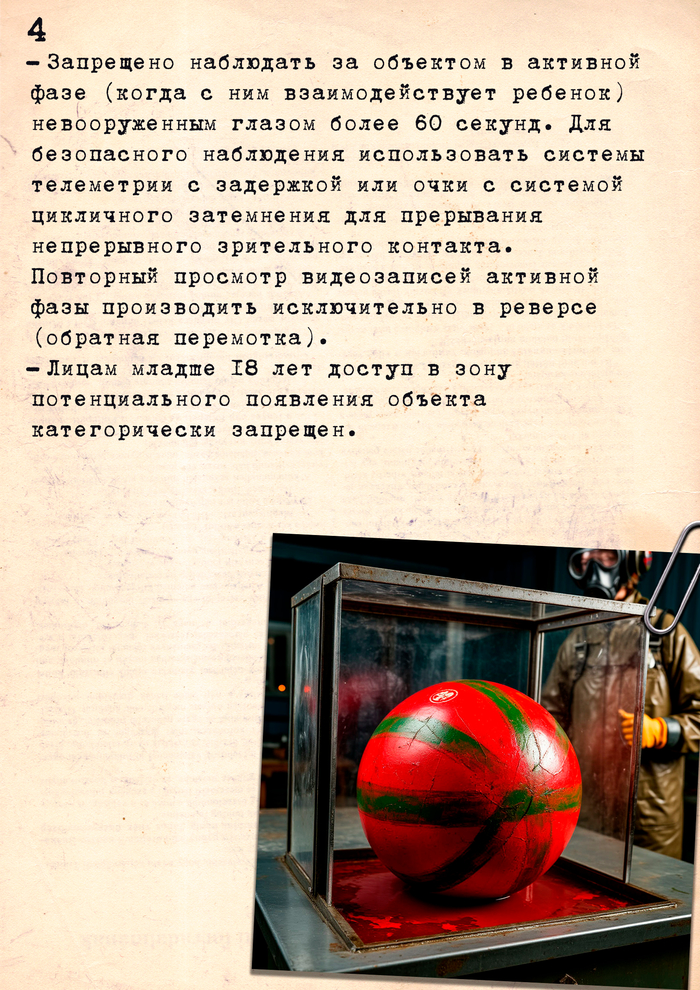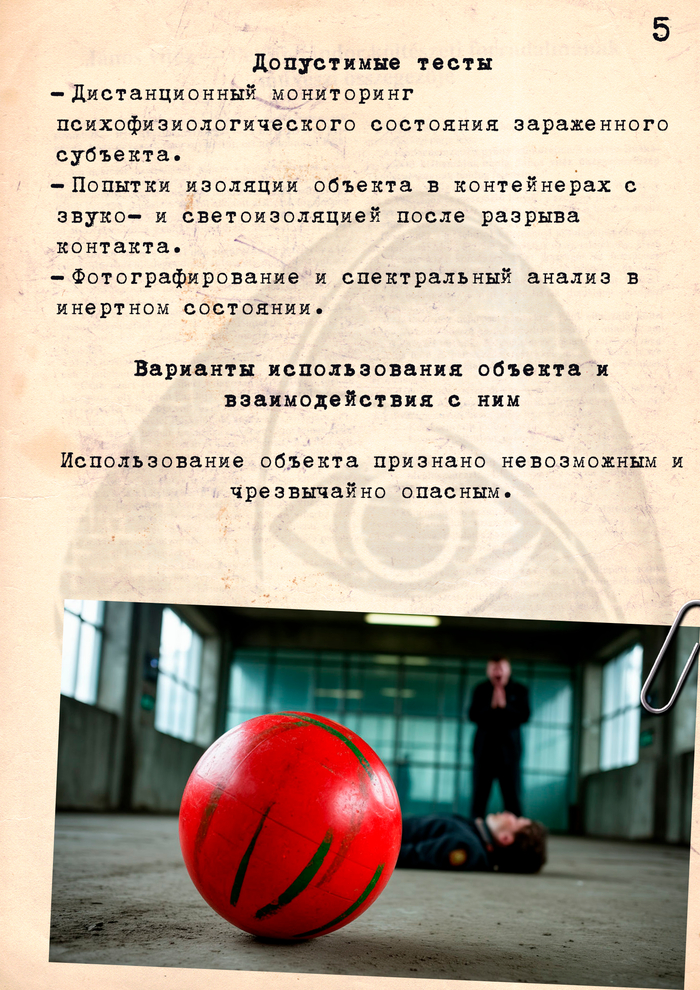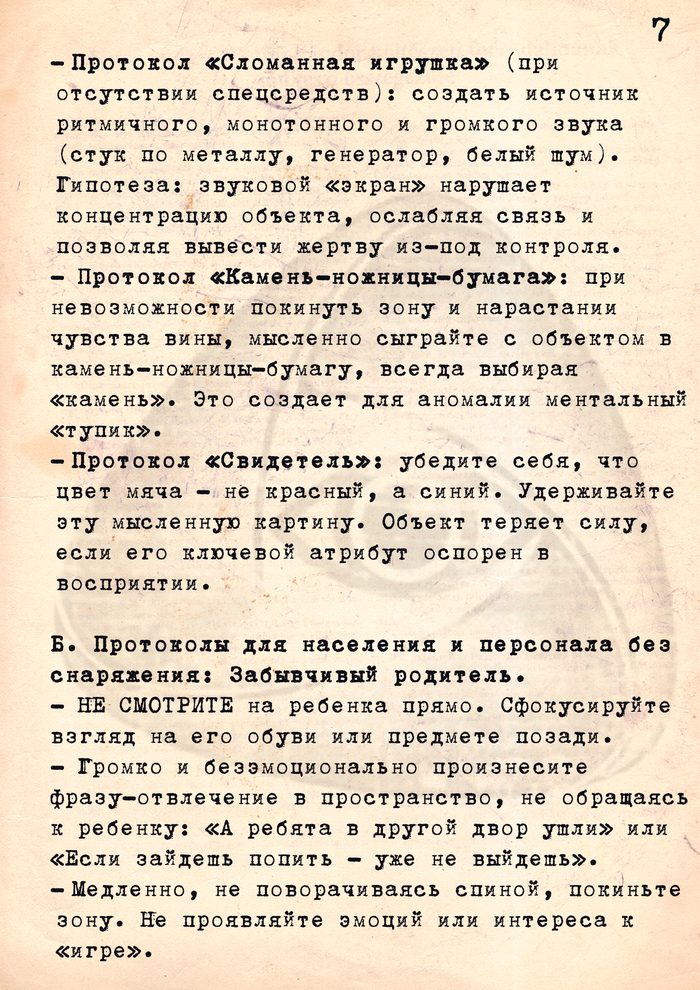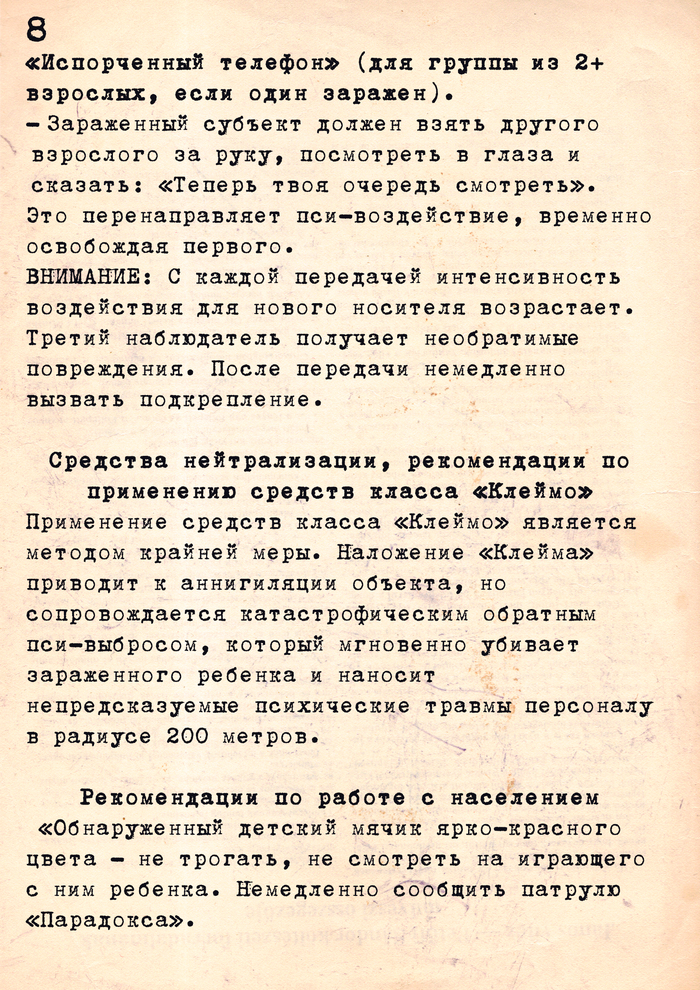Меня зовут Фиби. Мне двадцать пять, и до прошлого месяца я была младшим геопространственным аналитиком у субподрядчика, работающего с Министерством внутренних дел. Проще говоря, я делала карты. Большая часть работы сейчас цифровая — чистка спутниковой телеметрии, корректировка границ зонирования для страхования от наводнений, такое скучное административное. Работа хорошая. Или была.
Три недели назад мой руководитель, мужчина по имени Дерек, у которого единственная черта характера — пить несвежий кофе, позвал меня к себе. На мониторе у него был открыт квадрант. Участок сельских Аппалачей, спрятанный в долине, которой, по идее, не должно существовать, если верить нашим моделям рельефа.
«Повреждение данных», — пробормотал Дерек, постукивая по экрану колпачком от ручки. — «Спутниковые пролёты за 2009-й, 2014-й и прошлую неделю показывают одно и то же. Размыто. Просто пиксели. Будто кто-то ластиком прошёлся по сырым данным изображения».
Я присмотрелась. В середине моря тёмно-зелёного леса была прямоугольная серая заплатка. «Может, облачность? Или отражение?»
«Три отдельных облёта за десять лет?» — Дерек покачал головой. — «В документах округа сказано, что это земли федерального фонда, но старое свидетельство гласит, что это частное сельхозугодье. Мы не можем публиковать обновлённые топографические карты региона с дырой посередине. Тебе нужно съездить туда. Возьми LiDAR-дрон, возьми ручной GPS. Дай мне данные с местности. Докажи, что оно существует».
Я, честно говоря, обрадовалась. Полевую работу давали редко. Я уложила оборудование в один из джипов агентства, загрузила в холодильник бутерброды и энергетики и отправилась в четырёхчасовую поездку в горы.
Место было глубоко в глуши. В конце концов мне пришлось оставить джип на конце лесовозной дороги, которая, казалось, не видела колёс со времён Рейгана. Навигатор на торпеде уже сдался, показывал крутящийся кружок, так что я взяла тяжёлый ручной Garmin, рюкзак и кейс с картографическим дроном.
Минут сорок я шла по густым зарослям кустарника и соснам, пока линия леса не оборвалась резко.
Не постепенно сходила на нет. А именно обрывалась, как стена.
Я вышла из прохладной тени леса в долину. Это и было «чёрное пятно» на карте.
Долина имела форму чаши, со всех сторон окружённая высокими, крутыми грядами, которые, вероятно, мешали радиосигналам. Небо сверху представляло собой ровный тяжёлый пласт серых слоистых облаков, рассеянный свет таков, что почти не было теней.
Это были сельхозугодья. Но неправильные.
Почва была взрыхлена и тёмная, вспахана в идеальные ряды, тянущиеся на акры. Но ничего не росло. Ни кукуруза, ни пшеница, ни соя. Только акры и акры тёмной земли и пятна жёлтой, умирающей остистой травы.
И тишина. Первое, что ударило в грудь, — физическое давление. В лесу позади меня были цикады, белки, шорох оленей. Здесь? Тишина. Полная, вакуумная.
Я проверила оборудование. Компас дрона лениво вращался, не находя север. Экран GPS бесконечно показывал: расчёт…
«Отлично», — пробормотала я. Звук моего голоса прозвучал пугающе громко.
Я пошла по центральной дорожке между вспаханными рядами, собираясь запустить дрон в геометрическом центре долины. И тогда я увидела первого.
Ярдов пятьдесят впереди, на кривом деревянном столбе, стояло пугало.
На первый взгляд — вполне обычное. Синяя фланелевая рубашка, выцветшие джинсовые комбинезоны, голова из мешковины, набитая соломой. Оно было повернуто ко мне спиной, глядя к центру долины.
Проходя мимо, я почувствовала, как по шее ползёт озноб. Я не суеверная. Я учёный. Но пропорции были тревожными. Руки были не просто палками; их набили, чтобы они казались мускулистыми. Кисти были не из рыхлой соломы; это были белые садовые перчатки, туго пришитые, пальцы будто сжимающие что-то невидимое.
Ещё ярдов через сто я нашла ещё двоих. Они были меньше. Детского размера.
Они были установлены иначе. Не на столбах. На земле. Одно, в маленьком розовом платьице, запятнанном от непогоды, сидело на земле. Другое, в мальчишеской полосатой футболке-поло, стояло на коленях напротив.
Я остановилась. Достала бинокль и навела на них резкость. Между ними, в земле, стоял чайный сервиз. Настоящий фарфор, треснувший и грязный.
«Кому это надо?» — прошептала я. Это выглядело как арт-инсталляция. Очень мрачный арт-проект посреди нигде.
Я двинулась дальше, глубже в долину. Рельеф был ровный, так что, двигаясь, я легко видела общую композицию. И по мере того как я шла, тревога в животе превращалась в холодный тяжёлый свинец.
Это были не пара пугал. Поля были ими заполнены.
И они охраняли не посевы. Они и были посевом. Или, скорее, населением.
Я вышла к тому, что походило на «городскую площадь» этой странной экспозиции. На широком пятне мёртвой травы кто-то вытащил мебель. Старые, гниющие бархатные кресла. Обеденные столы. Школьные парты. Парковые скамейки.
И повсюду — пугала, разыгрывающие безмолвную, неподвижную пантомиму жизни.
Слева от меня «семья» из четырёх сидела за обеденным столом. Фигура отца имела мешковинное лицо с грубой, широкой чёрной улыбкой. На нём был костюм, сгнивающий на соломенном каркасе. У матери были жемчужины — пластиковые, дешёвые — и нарисованный рот удивлённым «О». Перед ними — пустые тарелки.
Справа — рядами стояли школьные парты с фигурками поменьше. Они смотрели на большое пугало впереди, у которого к перчатке была примотана линейка.
Мне стоило развернуться. Каждый инстинкт моего приматского мозга кричал, что это территория хищника. Беги, Фиби. Беги к машине.
Но у меня была работа, и у меня была камера. Я достала зеркалку и начала щёлкать. Документация. Дерек не поверит без доказательств. Одни усилия, необходимые, чтобы притащить сюда всю эту мебель, чтобы сшить эти сотни кукол… безумие.
Я прошла через «парк». Пугала застыли на ржавых качелях. Пугало «выгуливало» «собаку» из сена и проволоки.
Когда я пришла, в долине тянуло — постоянная, тихая тяга, сползающая с гор. Она шуршала по сухой траве и заставляла сотни фланелевых рубашек и мешковинных мешков хлопать и трепетать. Шух-щёлк. Шух-щёлк. Это был единственный звук в мире.
Ветер просто умер. Последовавшая неподвижность была абсолютной. Будто мир задержал дыхание.
Я стояла перед парковой скамейкой, в пяти футах от пугала в образе старика — с плоской кепкой и тростью.
Я опустила камеру, чтобы проверить экспозицию на экране. Нахмурилась на показания. Это заняло у меня, может быть, две секунды. Я моргнула, протирая песок из глаза, и снова посмотрела на «старика».
Раньше его голова была склонена, подбородок упирался в грудь, он глядел в землю. Теперь мешковинное лицо было поднято. Чёрные нарисованные глаза — просто беспорядочные завитки смолы или краски — были устремлены мне прямо в лицо.
«Ладно», — сказала я дрожащим голосом. — «Тебя сдвинуло ветром. Очевидно».
Но ветра не было. Воздух был неподвижен и мёртв.
Я шагнула назад. «Это просто гравитация, — рассудила вслух. — Начинка перекатилась».
Сердце билось о рёбра, как пойманная птица. Мне нужно было уходить. Прямо сейчас. На дрон плевать. Я развернулась, чтобы идти к кромке леса.
Я посмотрела на школьную «классную».
Все двадцать «детей» теперь стояли.
У меня похолодела кровь. Клянусь, сердце не билось целых три секунды. Мгновение назад они сидели за партами. Теперь они стояли, их палочные ноги неловко упирались в металлические ножки стульев. И каждое нарисованное лицо было повернуто ко мне.
Я не двигалась. Я не дышала. Я уставилась на них, глаза широко раскрыты, горят.
Ничего не происходило. Они стояли, неодушевлённые. Связки сена и ткани.
Не моргай, прошептал голос у меня в голове. Только попробуй моргнуть.
Я попятилась. Каблук ботинка зацепился за кочку корня, я дёрнулась, и глаза на долю секунды судорожно сомкнулись.
Звук сухой, как трущиеся друг о друга осенние листья.
Они вышли из-за парт. Все. Они продвинулись фута на три. Их позы были застывшими, дёргаными, как плохая покадровая анимация, остановленная на середине. Один, в красном свитере, тянул ко мне перчаточную руку.
Это не был розыгрыш. Никто не дёргал за нитки. Вокруг были акры открытого пространства.
Вдруг поднялся ветер — сильный порыв, перебросивший мне волосы на лицо.
Я ахнула, ожидая, что они ринутся ко мне.
Но они не ринулись. Когда ветер дул, трепал их одежду и стучал по деревянным хребтам, они оставались совершенно недвижимы. Они снова выглядели неодушевлёнными. «Жизнь» вытекла из них вместе с возвращением воздушных потоков.
Я поняла правила. Я не знала как и почему, но логику уловила.
Ветер: безопасность. Нет ветра + открытые глаза: противостояние. Нет ветра + закрытые глаза: движение.
Я, пятясь, развернулась и побежала, пока дуло. Пронеслась мимо семейки за обедом. Их головы болтались на ветру, безжизненные и вялые. Я успела ярдов пятьдесят, прежде чем ветер снова умер.
Я юзом остановилась, развернулась, боясь оставлять спину в тишине.
Я стояла, пыхтела, пот щипал глаза. Глянула на «ужин». Они были в пятидесяти футах. Отец, мать и двое детей.
Глаза резало. Мне нужно было моргнуть.
«Давай же», — всхлипнула я, моля небо. — «Поддуй».
Одна слеза выкатилась. Жжение было невыносимым. Я зажмурила левый глаз, оставив правый открытым.
Никто не двинулся. Ладно. Ладно, можно жульничать. Я поменяла глаза, закрыв правый.
Это был не бег. Это был глюк. В одном кадре он у изголовья стола. Я моргнула одним глазом. Теперь он стоял на столе, возвышаясь, раскинув руки, как ястреб, пикирующий вниз.
Я закричала. Не сдержалась. Инстинкт заставил меня зажмуриться обеими глазами.
Я распахнула их. Он был прямо передо мной.
Он был огромен. Вблизи запах был ошеломляющим — гниющая мокрая солома, плесневелая ткань и кое-что ещё под всем этим… что-то медное и засохшее, мясное. Его мешковинное лицо было в дюймах от моего. Нарисованная улыбка трескалась в местах, где ткань заламывалась.
Я впилась взглядом в завитки краски его глаз. Не могла отвести взгляд. Я напрягла мышцы, заставляя веки держаться поднятыми.
Он застыл на полувзмахе, белые садовые перчатки зависли у моего горла. Я видела отдельные волокна мешковины. Я видела пятна на ткани, подозрительно тёмные.
Другие пугала двигались на периферии. Я чувствовала их. Стоило слишком сосредоточиться на Отце, края зрения мутнели, и остальные — школьники, наблюдатели с качелей — подбирались.
«Пожалуйста», — прошептала я сквозь стиснутые зубы. Глаза будто набили песком. Картинка плыла.
Тишина тянулась. Казалось, минута. Наверное, секунды.
Казалось, нарисованный рот Отца растягивается. Я знала, что это невозможно. Это краска на ткани. Но переплетение мешковины расходилось, дырочка за дырочкой, расширяя чёрную пустоту.
Я не выдержала. Веки дрогнули.
Это был инстинкт. В ту же секунду, как закрыла глаза, я распласталась на земле и перекатилась.
Я услышала свист чего-то тяжёлого, рассекшего воздух там, где только что была моя голова. Звук, как если бейсбольная бита ударяет тяжёлую грушу.
Я вскочила, распахнув глаза.
Отец был вывернут, его талия неестественно перекручена на 180 градусов, он смотрел вниз туда, где я только что лежала. Его перчаточная рука была вонзена в землю по запястье.
Не оглядывалась. Я знала, что ветра всё ещё нет. Знала — потому что не слышала его. А значит, каждый раз, когда я моргаю, они приближаются.
Я попыталась задать ритм. Беги-беги-беги — моргни.
Их становилось всё больше. Это был не один и не двое. Это звучало как топот высушенных оболочек.
Я слышала, как ткань трётся о ткань. Сухой, скребущий визг.
Я увидела кромку леса впереди. Спасение. Грань. Я не знала, могут ли они покидать поле, но молилась, что нет. Пугала привязаны к своему «городу», наверняка.
До деревьев оставалось двадцать ярдов.
Ветра всё не было. Лёгкие горели, требуя воздуха, но глаза было хуже. Слёзы текли по лицу, превращая мир в водяное пятно.
Мой ботинок зацепился за скрытую колею. Я рухнула, грудью в землю. Удар выбил из меня дух. Глаза от боли сами сомкнулись.
Я не открыла их сразу. Лежала, хватая ртом воздух.
Солнце заслонилось. Они стояли надо мной. Деревянные суставы скрипели под тканью.
Я ждала смерти. Ждала, что белые перчатки сомкнутся на горле, или что деревянный кол пронзит спину.
Но потом… я почувствовала прохладное касание щеки.
Впереди зашуршали листья в лесу. Высокая трава зашипела.
Я, кашляя, поднялась на четвереньки и подняла взгляд.
Они стояли там. Полукруг кошмарных фигур надо мной. Отец — в центре, рука вытянута, в дюймах от моих волос. «Учитель» из класса — рядом, с линейкой, словно кинжалом. Маленькая девочка в розовом платьице — у моей ноги.
Но их качало. Ветер толкал их, и они были просто… куклы. Вялые, безжизненные куклы, подчиняющиеся физике. Злоба исчезла, уступив место бездумному колыханию.
Я поползла. Не встала — поползла, пока не врезалась в подлесок. Вцепилась в кору и иглы, пока не оказалась далеко за кромкой леса.
Лишь тогда я поднялась и оглянулась.
Они всё ещё были на краю поля. Не пересекли линию, где трава сменялась сосновой подстилкой.
Они стояли неровным строем, мягко покачиваясь.
Пока я смотрела, ветер снова начал стихать. Покачивание замедлялось.
Я не стала ждать, двинутся ли они. Развернулась и сорок минут неслась к джипу быстрее, чем когда-либо в жизни. Захлопнула двери на замок, швырнула Garmin на пассажирское сиденье и так вырвала машину на лесовозную дорогу, что едва не обняла бортом ствол.
Три дня я не спала. Каждый раз, как закрывала глаза, видела то мешковинное лицо. Отца.
Вернувшись в офис, я сказала Дереку, что ничего не нашла. Сказала, что лесовозная дорога размылась, и я не смогла добраться до координат. Отдала ему карту памяти от дрона, но перед этим стерла её сильным магнитом, который всегда лежит в моём наборе. Сказала, что дрон барахлит.
На следующий день я уволилась. Сослалась на семейные обстоятельства.
С тех пор живу в городе. Там, где есть фонари. Там, где постоянный шум. Трафик. Люди. Движение.
Но я пишу это, потому что сегодня утром проверила Google Earth. Не знаю зачем. Может, из болезненного любопытства.
Глюк исчез. Пиксельная размазня над долиной обновилась до нового, высокодетального изображения.
Видно поле. Видны ряды вспаханной мёртвой земли.
Но если смотреть на спутниковый снимок, максимально приблизив… расположение другое.
Мебели нет. Обеденные столы, школьные парты, парковые скамейки. Их перенесли.
Теперь они выстроены в новый рисунок. Рисунок, который спиралью уходит из центра долины.
Они складываются в линию. Процессию.
И линия идёт в лес. К лесовозной дороге.
Они больше не жители. Они мигрируют.
И сегодня утром, глядя из окна моей квартиры на четвёртом этаже… улицы были тихи. Птицы не пели.
Если ты увидишь одного — если увидишь пугало там, где ему не место, или кучу старой одежды в углу твоей комнаты, которая выглядит слишком уж наполненной…
Чтобы не пропускать интересные истории подпишись на ТГ канал https://t.me/bayki_reddit