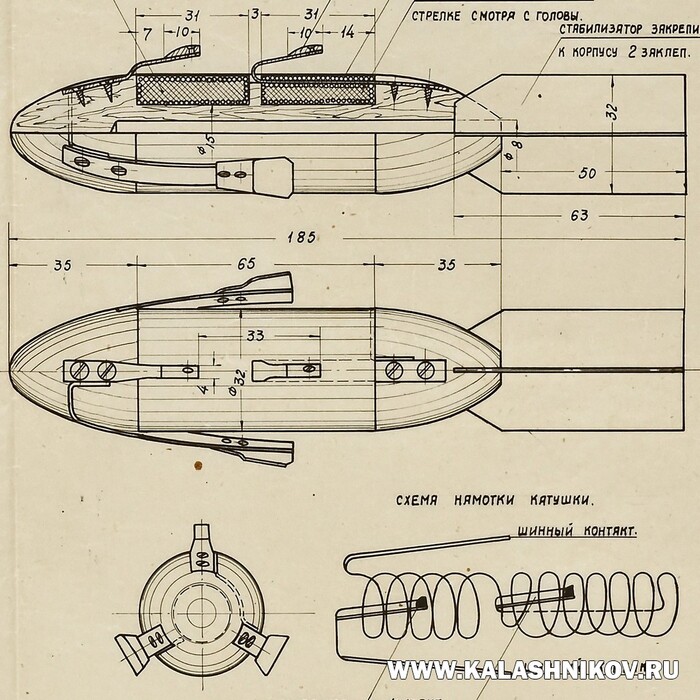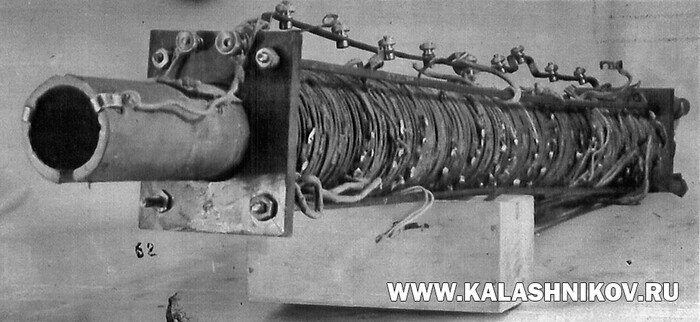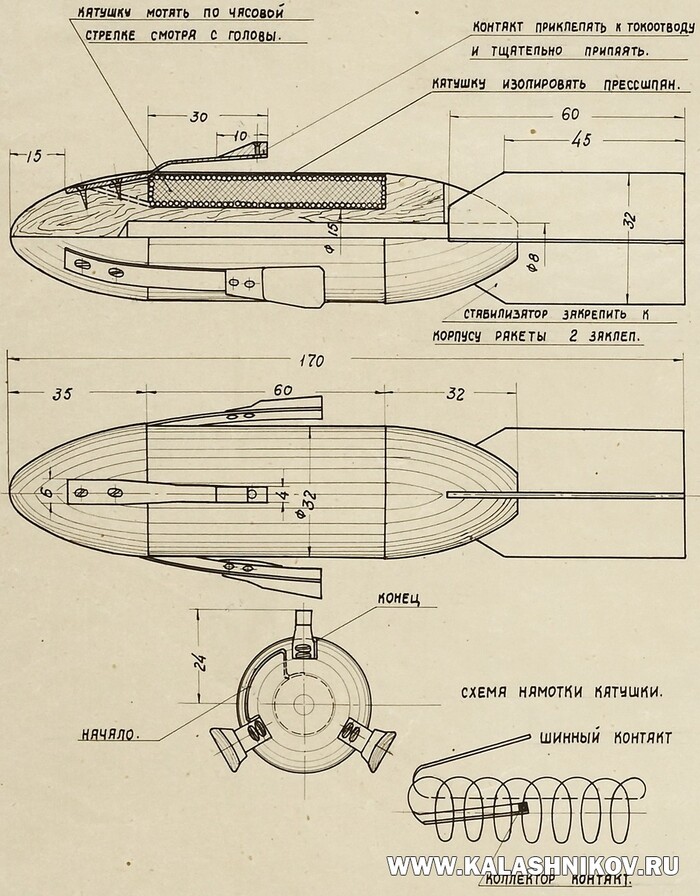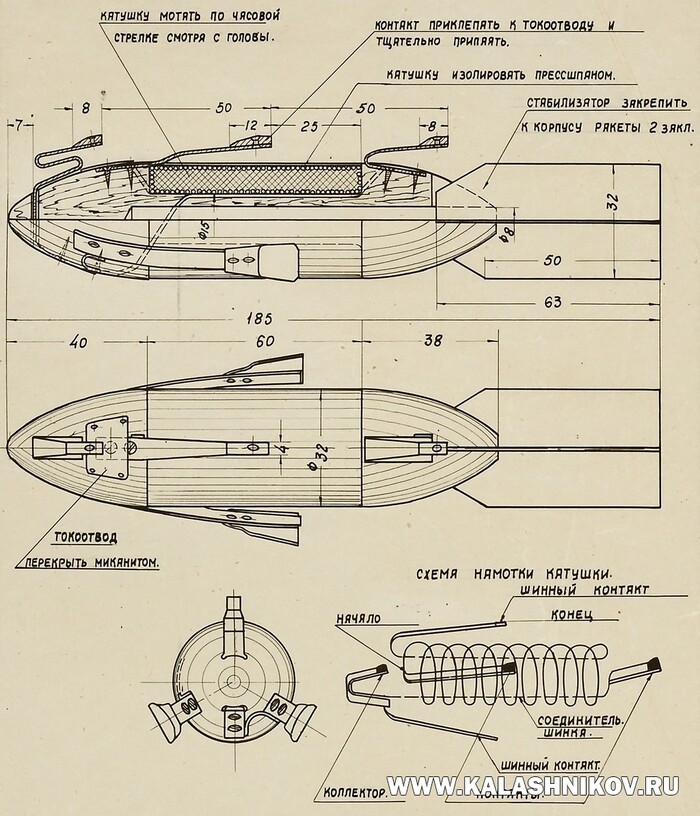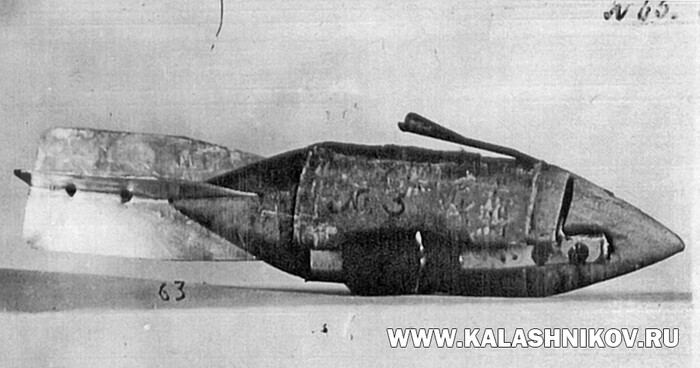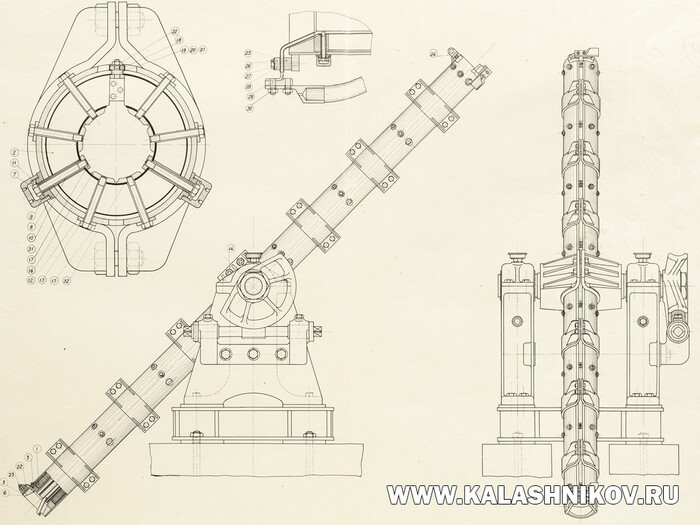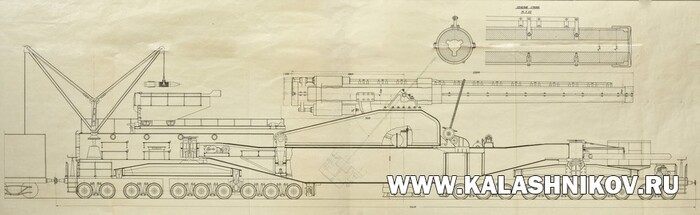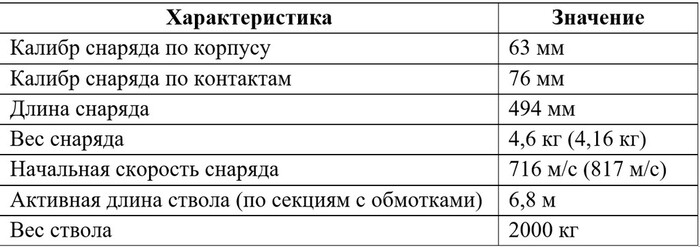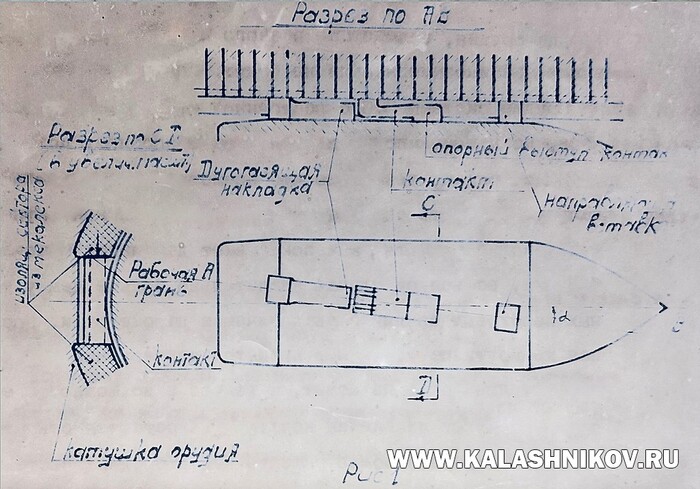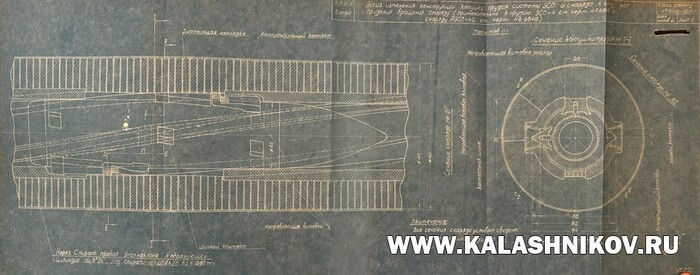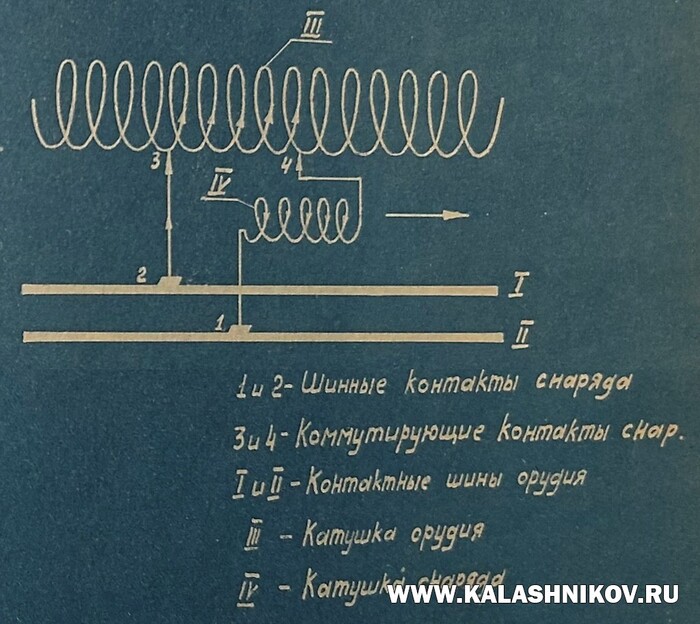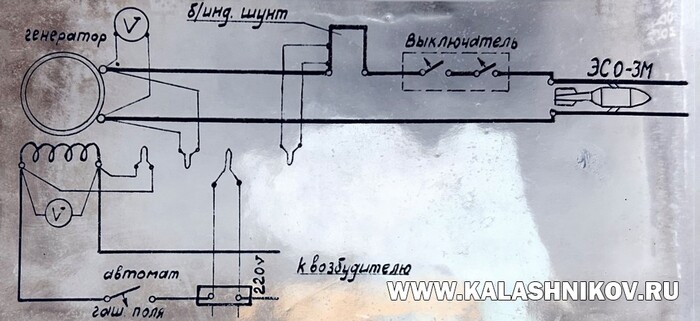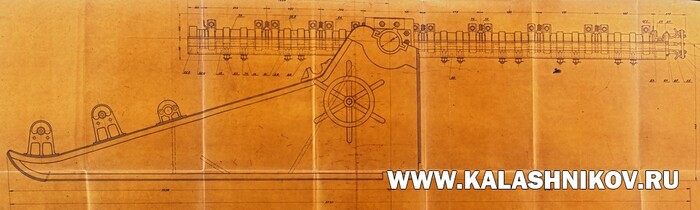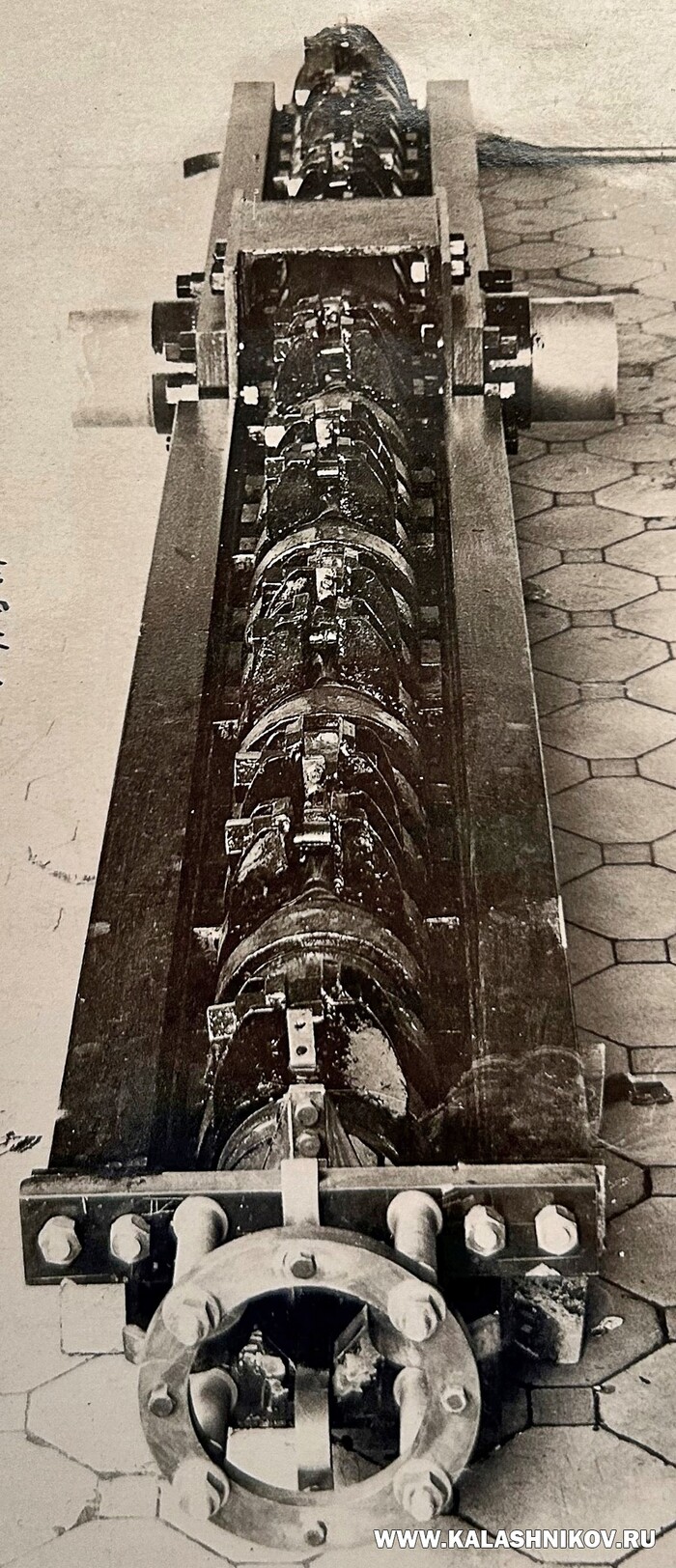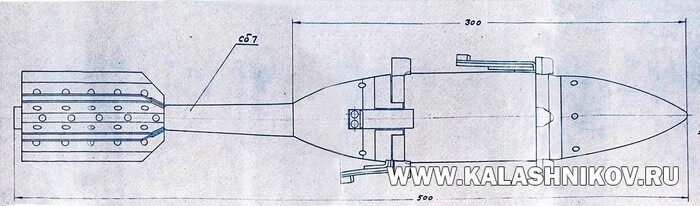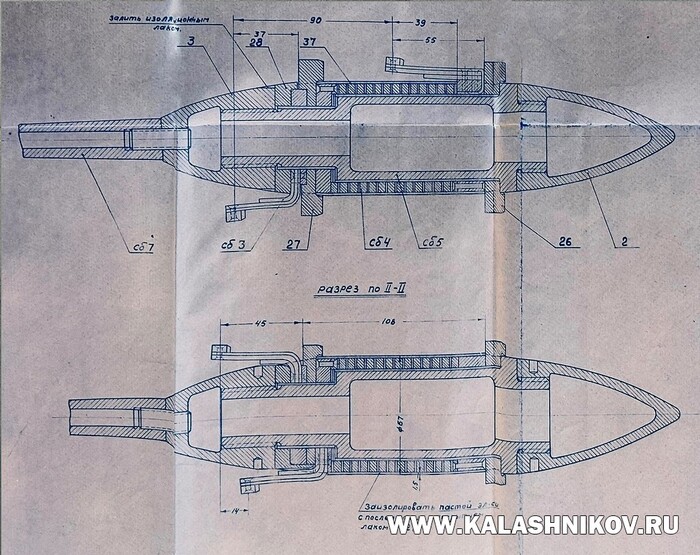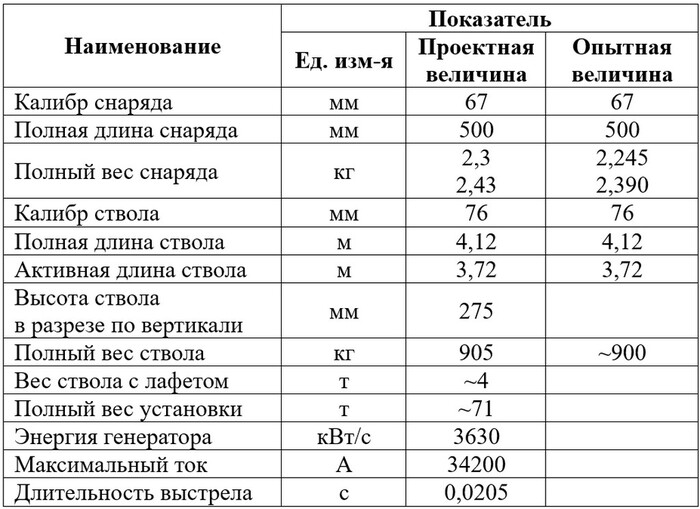«Я оккупант»: Герой СВО из Кирова – о том, почему он воюет за русский мир и что увидел в «Шервудском лесу»
Интервью с добровольцем из Кирова Виктором Платуновым, позывной «Дон»: «При чувстве страха я не могу бежать назад»
Виктор Платунов, доброволец с позывным «Дон», прошел путь от неформала и участника уличных группировок 2000-х до старшего разведгруппы в зоне СВО. Он дважды пережил клиническую смерть, получил тяжелейшее ранение, но затем вернулся в строй. О своем пути, о войне, и о том, что заставляет человека идти вперед, когда единственный инстинкт – бежать, Виктор рассказал в интервью главному редактору «Время МСК» Екатерине Карачевой.
Медаль «за Отвагу» и медаль святителя Иоасафа Белгородского от Белгородской Епархии.
Виктор, как мальчик из Кирова, учившийся в музыкальной школе, оказался в гуще уличных боев и идеологических баталий?
-- Детство мое прошло на ОЦМ в Кирове, в «нулевые» годы. Я учился в детской музыкальной школе №2 на Гайдара, потом в 15-й школе. Однажды, шел с музыкалки, и подошел товарищ. Сейчас он в органах, в одном из ведомств. Привел меня, можно сказать, в компанию к скинхедам. Сам он к ним не относился, но так вышло.
С биологическими родителями жизнь развела. Я с двух лет рос у тети, для меня она – мама. Я был молодым, очень импульсивным и агрессивным. Меня затянуло лет на семь. Начал с низов, но меня заметили, продвинули. Там была своя иерархия, как в любой структуре. Я собирал молодежь, занимался спортом, популяризировал ЗОЖ, ну и, конечно, мы «отвечали на беспредел». Если кого-то зажимали, если приходила весть, что наши в беде – мы выезжали. Жестко было.
Помню, зимой 2013-го нас вызвали на «дружбу» (район Кирова – Ред.), двоих наших зажали значительно превосходящие силы оппонентов. Мы выскочили сзади, я выстрелил из ракетницы, начали драку. Эффект неожиданности сработал – они побежали. Тогда казалось, что мы защищаем свою правду.
Когда пришло осознание, что долгое время были на темной стороне?
-- Я никогда не был нацистом. У меня просто не было такого ублюдского сознания. Да, я не любил большевиков из-за истории семьи – у нас она была раскулачена, предки были офицерами, донскими казаками. Но с ребятами из движения я стал расходиться во взглядах еще до 2014-го. А потом грянул Майдан.
Меня тогда начали звать в «Азов»*. Знакомые общие вышли на связь. Говорили: «Молодой, горячий парень, который готов биться за все хорошее против всего плохого». Мотивация простая: «Мы против сепаратистов». Мне было 19 лет, и это казалось убедительным.
Но судьба свела меня с первыми беженцами с Донбасса. Антифашисты кировские познакомили. Я пришел к беженцам, а у них – поминки. Семью расстреляли укробоевики. За их «Русскость». Я тогда понял: это та же «бредь», только с другой стороны. Это был переломный момент. И сказал скинам прямо: «Мне с вами – не по пути». Надеялся уйти тихо.
Отпустили?
-- Нет. Для них мой уход был предательством. Сначала были угрозы, потом все перешло на другой уровень. Однажды ночью они пришли к моей тете и стали требовать, чтобы я вышел. Она им сказала, что мы не общаемся, что я из семьи ушел. Они начали угрожать. Но она женщина с характером, не испугалась, пригрозила вызовом полиции. Они ушли.
Они задели мою семью, и я начал их искать. А однажды пришел в свой подъезд и увидел надпись, выцарапанную на стене: «Витя умрет!» и рядом – свастика. Старый дом еще, немцы строили, штукатурка мягкая. Это было уже открытое объявление охоты на меня.
Снова пошел к антифашистам. Да, к тем, кого раньше считал противниками. Объяснил ситуацию, рассказал про разницу во взглядах, про угрозы семье. Они меня выслушали и сказали: «У тебя взгляды здравого антифашиста. Поможем».
Что вам дал этот опыт?
-- Он окончательно утвердил меня в правильности моего выбора. Я увидел, что правда не бывает односторонней. И что иногда ради защиты своей семьи и своих принципов нужно идти на неожиданные союзы. Этот период закалил меня и научил смотреть на вещи глубже. Я удалил свою старую страницу в соцсетях, оборвал контакты и начал свой путь заново.
Но этот путь на фронт привел не сразу…?
-- Да, в 2015-м я получил два года. На меня напали из-за моей позиции, попытались «объяснить», что к чему. Я не стал биться, потому что понимал – бессмысленно. Достал нож, сказал: «Ребята, еще шаг – буду резать». Один разбил бутылку, я ударил… Получил срок за причинение вреда здоровью. Освободился в 2017-м.
Тюрьма – это отдельный опыт. За мной закрепили статус – «склонный к экстремизму». Но именно там, как ни парадоксально, окончательно сформировался мой пророссийский взгляд. Раньше мне было плевать на политику. А там я увидел все изнутри.
После освобождения было тяжело. Никуда не брали на работу. Работал охранником, потом в ковидной реанимации, потом друзья позвали в стоматологический центр, делал КТ-снимки. Мы с 2018 года с ребятами, готовились к конфликту. Мы знали, что он будет. Создали группу, назывались «Атаманская сотня Хлынов», изучали тактику, ездили на сборы, готовились, знали, что придется Родину защищать.
С начала СВО вы были в первых рядах?
-- Да. 24 февраля мы уже сидели на чемоданах. Снаряжение было собрано. Сразу поехали. 26 марта я был уже в Ростове. 28-го подписал контракт на 6 месяцев через «Редут», но мы были отдельным добровольческим подразделением «Ветераны» Добровольческого Корпуса МО РФ.
Командир бригады, когда меня увидел, спросил: «Славянскую тему двигал?» Я говорю: «До 14-го года». Он: «А чего прекратил?» – «Потому что они за Украину топят». Он посмотрел и говорит: «Вижу по тебе – свой пацан». Так я попал в подразделение.
Надеялся попасть на Азовсталь в Мариуполе, чтоб встретить и в глаза посмотреть некоторым из своих бывших «соратников», но не сложилось.
Где в итоге оказались?
-- В Харьковской области. Там у нас организовалась разведгруппа из 8 человек, мы с товарищем, позывной «Кэп», стали старшими группы.
Что за задания выполняли?
-- Разведка, наведение огня, однажды нашли схрон с украинской формой, и – почти два месяца переодевались и ходили в тыл врага.
Ничего себе, и как?
-- Находили вражеские схроны с продовольствием и боеприпасами. Себе забирали то, что было нужно для пропитания, а остатки минировали.
Как-то раз мы прямо с позиции ВСУ унесли вражеский гексакоптер диаметром три метра. Просто подошли, взяли и быстрым шагом пошли в сторону позиций. Думали, по нам огонь откроют, но все обошлось. Потом его отправили в Питер для изучения.
Однажды устроили засаду на машину, перевозившую медикаменты на танковую позицию. Украинцы сначала подумали, что мы – свои. Мы сыграли эту сцену до конца. Водителя взяли в плен – он только тогда и понял, что происходит.
Что стало с водителем?
-- Он думал, что мы свои, начал: «Слава Украине!»**. Я ему в ответ: «Слава Украине в составе России, мальчик». Он обмяк на глазах. Но я не дал ребятам его тронуть. Водила оказался гражданским, гумпомощь ВСУ вез.
Я ему тогда свое стихотворение прочитал – «Я оккупант» (внизу материала – Ред.). Он расплакался. Я объяснил ему: «Вам в уши нассали, что вы какая-то высшая нация. Это не так. Вы такие же русские. Ваш «украинский» – это суржик, смесь малоросского диалекта с польским. Вас разделили, чтобы властвовать».
После всех процедур – кто, да что – он остался в Изюме, работал санитаром в госпитале с нашими ранеными, насколько знаю.
Как вас раскрыли?
-- Мы понимали, что нас рано или поздно спалят. Мы не скрывались от этого, мы просто выжимали максимум из того времени, что у нас было. Наводили столько артиллерии, минировали столько троп, что в конце концов противник начал анализировать: откуда в его, казалось бы, безопасном тылу, такие проблемы. Когда они сложили два и два, по нам начали работать целенаправленно. Но эти полтора месяца дали нам колоссальный опыт и показали, что правильная легенда и хладнокровие решают все.
Вы упомянули, что у вас есть особенность – при чувстве страха не можете бежать назад.
-- Да, это такая моя черта, она мне на фронте помогала. Я не могу через себя переступить, чтобы побежать. Если приказ на отход – это одно. А так – только вперед. Была ситуация на Харьковском направлении: союзное подразделение получило разведданные о прорыве тысячи боевиков (по их словам) на наши позиции. Они прибежали к нам: «Уходим!». А я говорю: «Мы с моими парнями не уйдем». И остались. Позиции удержали.
Как ранило?
-- Это была минно-взрывная травма. Нас бросили на чужую задачу, не нашу. Нужно было сменить союзное подразделение.На выполнении этой боевой задачи все и произошло. Я только успел прокричать ребятам: «В укрытие!», сам упал. Отполз немного вперед. Прилетело. Помню, как меня подбросило в воздухе и ударило об землю, отказали ноги.
Что помните дальше?
-- Эвакуация на машине заместителя командира бригады, с позывным «Пехота». Далее военный госпиталь в Изюме и командира, который уже там ждал – сделал все, чтобы я попал на эвакуацию. Потом отключка. Очнулся уже в госпитале. Вернее, я очнулся... прямо во время операции. Лежу на боку, во мне всякие зажимы, а я ничего не чувствую. На соседнем столе лежит мой товарищ «Сват», ему ногу разорвало. Вижу его, и начинаю... ржать. Не сдержался. Командир наш там же, он в халате, смотрит на меня, сам улыбку сдерживает. А врачи в панике: «Не зови его, он начинает ползти на голос!». Затем, меня снова вырубило.
Говорили, у вас было две клинических смерти?
-- Да. Первый раз – сразу после взрыва, на поле. Ребята меня оттащили, начали откачивать. Второй – когда бронежилет снимали, видимо, организм не выдержал. Затем пневмоторакс. Врачи потом говорили, что я был в состоянии, несовместимом с жизнью. Результат – нет почки, селезенки, части легкого, открытая черепно-мозговая травма, компрессионный перелом позвонка.
Как проходило лечение?
-- Сначала госпиталь в Изюме, потом Белгород. Там мне легкое подпаяли и удалили остатки почки с селезенкой. Затем вертолетом в Москву, в Бурденко. Там уже третью операцию делали, осколок из позвонка доставали.
Что было самым тяжелым после ранения?
-- Осознание, что ноги не работают. Что стопа висит. Чувствительность нулевая. Нервы перебиты. Врачи говорят, шанс на восстановление есть, но минимальный. К тому же, одно за другим цеплялось – и ковид там подхватил, и гнойный менингит… Иммунитет совсем рухнул на тот момент.
Что не дало сломаться?
-- Мысль, что надо возвращаться. Я же почти сразу, как на ходунки встал, обратно купил билет. Два с половиной месяца в госпитале, затем дома лечебная физкультура – и рванул обратно. Как раньше воевать не мог, но стал инструктором по БПЛА. Надо было ребятам передавать опыт.
Что почувствовали, когда снова оказались в зоне СВО?
-- Что я на своем месте. Да, на тросточке. Да, нога не слушается. Но я был нужен. И это главное.
Виктор, мы много говорили о работе в группе. Были и задания, где вы действовали в одиночку?
-- Да, на том же Харьковском направлении. Основная работа – наблюдение. Я запускал дрон, вскрывал позиции противника, искал технику, огневые точки, живую силу. Фиксировал координаты и передавал артиллерии или штурмовикам. Пару раз приходилось корректировать огонь наших вертолетов по ночам, помогать авиа-корректировщикам. Сидишь в темноте, слышишь гул наших вертушек, ведешь их визуально на цель, смотришь в тепловизор и сообщаешь корректировщикам, они уже своему командованию.
Как обеспечивали безопасность?
-- Маскировка и скрытность – главное оружие. Мою позицию никто не должен был заметить. Связь – только в определенное время для передачи данных. Со мной был водитель, но он находился на удаленной точке, чтобы в случае чего я мог быстро эвакуироваться. Но на задании – абсолютно один.
Что было самым сложным в таких вылазках?
-- Осознание полного одиночества. Ты один на нейтральной полосе. Никто не прикроет, не подстрахует. Любой шорох, любой пролет дрона, и ты думаешь, что тебя обнаружили. Напряжение колоссальное. Но при этом – адреналин и чувство ответственности. От твоей работы зависит, придут ли наши ребята на подготовленную позицию или напорются на укрепившийся опорник.
Были моменты, когда чуть не раскрыли?
-- Постоянно. Их дроны-разведчики все время в воздухе. Главное – не шевелиться, когда они рядом. Бывало, пролетит – и сердце замирает.
О потерях ВСУ..., слышала, вы видели километры тел боевиков?
-- Да. Это было в окрестностях Изюма в так называемом «Шервурдском лесу». Яр, который на картах значится как-то иначе, но все военные знают его под этим названием. Нас перекинули туда на задачу, и то, что я там увидел, не забуду никогда. Это было похоже на сцены из фильмов про Апокалипсис.
Ты идешь по лесу, по бывшим позициям ВСУ и их трупы кругом... Они везде. Не эвакуированные, не захороненные. Украинская сторона их не забрала. Они просто остались там гнить. Запах стоял такой, что не передать.
Как думаете, почему их не эвакуировали?
-- В основном, у них нет такого как у нас, понятия – «своих не бросаем». Для их командования эти люди – расходный материал. Когда идет мощное наступление, артобстрелы, им просто некогда, или невыгодно рисковать живыми ради мертвых. Проще прислать новых мобиков. У них отношение к собственным солдатам как – к пушечному мясу.
Что чувствовали, глядя на это?
-- Смешанные чувства. С одной стороны, это враг. С другой – люди. Многие из них – такие же молодые пацаны, которых бросили в эту мясорубку. И их же собственное командование бросило их после смерти.
И когда я видел, как наши ребята, рискуя собой, пытаются под обстрелом вытащить тела наших погибших, чтобы предать их земле, – я понимал разницу между нами. Для нас – солдат, даже погибший, – это герой, которого нужно похоронить с почестями. Для них – это просто отработанный материал. И это фундаментальная разница.
Что для вас эта война?
-- Я пришел сюда не за деньгами. Мы в 22-м даже не знали, будут ли нам платить. Помню, сказал тогда: «Как все закончится, главное – на обратный билет дайте». Деньги – это приятный бонус, фантики. Я шел, потому что был уверен в своей правоте. Это моя земля, земля моих предков. И я защищаю свой народ.
Что пожелаете тем, кто только собирается на фронт?
-- Прежде всего – подумать. Если гонитесь только за деньгами – это самый большой бред. Рисковать жизнью за 200 тысяч? Не стоит оно того. А уж если подписали контракт – будьте добры, несите службу достойно. Не будьте предателями и дезертирами.
Берегите себя и берегите тех, кто рядом. Вам придется доверять им свою жизнь, а они будут доверять свою вам. И помните: вы идете не за фантиками, а за идеей. За своей землей, за своими людьми. Если эта идея в вас не живет – лучше не ходить. Вы берете на себя огромную ответственность. Не перед контрактом, а перед своей совестью, народом и страной.
Виктор, каково это – вернуться с войны в родной город после фронта?
-- Сложно. Ты возвращаешься вроде бы домой, но чувствуешь себя чужим. Там, на фронте, все просто и понятно: свой-чужой, черное-белое. А здесь... Здесь люди маски носят. Не в прямом смысле, конечно. Имею в виду, что не поймешь сразу, кто перед тобой. Там человека видно сразу, по поступкам.
С какими главными трудностями столкнулись?
-- Неприятие гражданской суеты. Мелочные проблемы, которые здесь кажутся важными, для меня они просто смешны после того, что видел.
Чем сейчас занимаетесь?
-- Работаю. Пытаюсь найти себя. После госпиталя работал в сельхозакадемии, готовил операторов БПЛА. Сейчас перехожу на новую работу. Параллельно получаю высшее образование. Хочу быть полезным, что-то менять в жизни родного города, помогать людям.
А как насчет спорта?
-- Да, фонд «Защитники Отечества» Кировской области помогает, пригласил на соревнования. В этом году съездил на турнир по стрельбе из лука, занял восьмое место, хотя до этого особо не стрелял. Потом по стрельбе из винтовки – шестое. Двигаюсь в этом направлении. Если дают возможность – почему бы и нет? Это дисциплинирует, помогает держать себя в форме.
А что с семьей, с личной жизнью?
-- С мамой все хорошо, слава Богу. А так... в процессе. (Улыбается).
На фронт тянет?
-- Постоянно. Это не проходит. Любого, кто нормально служил, тянет обратно. Там братство, там все по-честному. Там остались ребята, командиры. Если что-то случится, если буду нужен – конечно, поеду. Но пока понимаю, что там и без меня справляются.
Какая цель в мирной жизни?
-- Найти свое место. Не потеряться. Не дать этой гражданской жизни себя проглотить. Остаться полезным. Получить образование, получить ресурс, чтобы реально помогать – и ребятам, вернувшимся с фронта, и вообще людям. Война рано или поздно закончится, а жизнь продолжается. И к этой жизни надо как-то приспособиться, найти в ней новый смысл. Обязательно найду...
Как считаете, чем закончится эта война?
-- Мы будем биться до конца. Цели СВО будут достигнуты, чтобы ни случилось. Войны начинаются и заканчиваются в кабинетах, а мы – исполнители. Наше дело – делать свое дело честно.
«Оккупант» – Виктор Платунов, «Дон»:
Я – Оккупант. От переднего края
До последних границ городов.
Пока малых детишек стреляя,
Восхваляют сорвиголов.
Оккупант городов украинских.
Да я горд и почту за честь,
Защищать всех родных и близких,
Коих нашим народам не счесть.
Я пришел из России Великой,
Самой щедрой и доброй страны.
Нам пришлось стать народом «Безликим»
Чтоб безликими не были Вы.
И стою на земле своих Предков,
Я – потомок донских казаков,
Пока вы, затянув «Ще не вмерла»,
Забываете память отцов.
И готовы сжигать всех «неверных»…
Раз для Вас это новый джихад?
Извини – не пойму уж наверно.
Невозможно такое принять.
Да, путь мой долиною смерти,
И зла на нем – не убоюсь.
Я сжал автомат, и не верьте,
Если скажут о том, что сдаюсь.
Оккупант, хоть рожден был поэтом,
И поэтому буду в строю,
Оккупантом, идущий по Свету,
Я Поэтом в атаку иду.
Наши читатели не узнали бы историю героя СВО Виктора Платунова, если бы не помощь филиала фонда «Защитники Отечества» Кировской области.
* «Азов» – организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.
** «Слава Украине» – запрещенное в России приветствие укронацистов
Выставление авторских материалов издания и перепечатывание статьи или фрагмента статьи в интернете – возможно исключительно со ссылкой на первоисточник: «Время МСК».