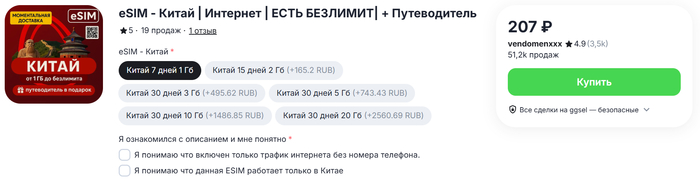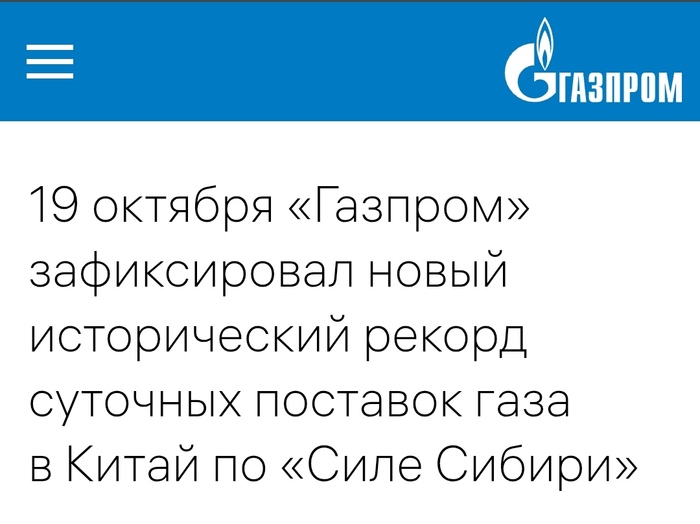Маленький секрет в китайском паспорте
Деревня Хуанлун затерялась в зелёных складках холмов Гуйчжоу. Она была миром в себе, отрезанным от стремительного бега времени, где жизнь текла медленно и неторопливо. Посев, полив, сбор урожая. Воздух был густым, влажным, сладковатым от запаха гниющей листвы и цветущего бамбука. Мы были как этот бамбук и гнулись под ветром нужды, но цеплялись за скудную почву, выживая любыми способами. Жизнь в китайское деревне это труд с утра до позднего вечера.
Я был шестым ребёнком в семье, неучтённым и невидимым для государства. Жизнь в деревне научила меня не плакать, когда больно, не смеяться громко и не выбегать на улицу при виде чужих. Моё «любимое» место было под грубой деревянной кроватью, в тесном чулане за мешками с рисом, когда в деревню наведывались «важные дяди» из комитета по планированию семьи. Я дышал пылью и слушал как мать уверяла, что в доме только пятеро детей. Я был её секретом и шестой надеждой, которая могла стоить им всего.
А потом настал день моего пятого рождения. Вернее, день, который они назначили моим рождением. Помню как отец, обычно молчаливый и сгорбленный, вернулся домой с казённого двора не один. С ним был дядя Ли. Он был начальник деревенской администрации, человек с лицом как у высохшей речной глины и глазами-щёлочками. В руках у отца болталась прозрачная пластиковая канистра. В ней был тот самый кукурузный самогон, который был нашим местным золотом и валютой.
Мать заперла дверь. Старших детей отослали к соседям под предлогом помощи по хозяйству. Меня посадили в углу, приказав сидеть смиренно и не шевелиться. Я смотрел как взрослые сидят за низким столом. Отец налил самогон в две потёртые фарфоровые пиалы. Запах ударил в нос.
— За твоего младшего, — хрипло сказал дядя Ли, чокаясь с отцом. — Пусть растёт крепким и принесёт почёт семье.
Они выпили залпом, не морщась. Потом ещё. И ещё. Голоса их становились громче, а лица краснели. Дядя Ли достал из потрёпанного портфеля какие-то бланки с водяными знаками. Отец взял мою маленькую ладонь и, обмакнув её в чёрную тушь, приложив к жёлтой бумаге. Отпечаток получился кривым и размазанным как клякса. Но это было не важно.
— Дата рождения? — спросил дядя Ли, заполняя графу дрожащей от хмеля рукой.
Мать стояла у печи и быстро обернулась, услышав вопрос:
— Первое мая. День труда. Так будет легче запомнить.
Дядя Ли кивнул и вывел в графе: «Первое мая тысяча девятьсот восемьдесят пятого года». На самом деле мне было уже пять. В тот день я стал моложе на пять лет и получил не только паспорт, но и укороченную биографию.
Когда дядя Ли ушёл, захватив с собой оставшийся самогон и свёрток со свежими куриными яйцами, мать подошла ко мне и прижала меня к груди впервые за долгое время.
— Теперь ты есть, сынок, — прошептала она. — Теперь ты есть.
Этот день научил меня первому и главному уроку в моей жизни, что реальность это просто договорённость, а истина заключается в том, что написано в документах.
Жизнь в Хуанлуне была не просто бедной, а чудовищно однообразной. Голод был моим постоянным спутником, который заставлял просыпаться ночью. Мы ели всё, что могла дать земля. Собирали даже дикий бамбук и коренья. Настоящим пиршеством была горсть риса, растянутая на весь день в виде жидкой кашицы. Работа родителей была каторжной. Отец гнул спину на рисовом поле, а мать таскала воду и стирала белье богатым соседям. Её руки были шершавыми как кора деревьев.
Мир вокруг был жесток и безразличен к нашим страданиям. Дети в деревне, такие же измождённые как и я, находили отдушину в том, чтобы травить того, кто слабее. А я и был слабее, несуразным мальчишкой, который вместо драк и игр предпочитал тишину.
Моя мать, с её усталыми, но странно красивыми глазами и чертами, резко контрастировала с лицами остальных жителей деревни. Она была уйгуркой. Когда-то давно, в голодные годы, родная семья отдала ее за мешок зерна, и она оказалась здесь, в ханьской деревне. Отец женился на ней от безысходности и бедности. Она была тихой, покорной, но ее происхождение висело на мне как клеймо. «Чен верблюжий глаз», «Чен чужеземец» дразнилки меня сверстники. Мои чуть более глубоко посаженные глаза, и не такие иссиня-черные как у других волосы, были постоянным напоминанием о том, что я чужой.
Моим единственным спасением в иную реальность, где не было ни ханьцев, ни уйгуров, а только чистота и покой, была книга. Я нашёл её на свалке за околицей, куда свозили весь деревенский хлам. Она была потрёпанной, с вырванными страницами, пахла плесенью и дымом, но на уцелевшей обложке алыми иероглифами сияло: «Высшая математика. Часть первая». Я не умел читать, но цифры были универсальным языком. Я принёс книгу в наш дом и спрятал под соломой, где спал.
По ночам, при тусклом свете керосиновой лампы, я водил пальцем по загадочным символам. Они были красивее любого цветка и строже любого горного хребта. Я начал видеть их повсюду. Дождь, стучавший по крыше, был не просто дождём, а настоящим рядом падающих капель. Я подсчитывал интервалы между ударами и выстраивая их в последовательности. Рост бамбука во дворе был для меня не чудом природы, а воплощением геометрической прогрессии, которую я пытался вывести, царапая формулы палкой на земле.
Однажды, во время ужина, когда отец молча разламывал лепёшку, я не выдержал.
— Ба, — сказал я, робко глядя на него. — Смотри. Таракан бежит по стене. Его путь… он повторяет вот эту кривую. — Я нарисовал пальцем на пыльном полу параболу.
Отец посмотрел на мой рисунок, а потом на меня. В его глазах не было ни злобы, ни удивления, а была лишь усталая пустота.
— Не неси ерунды, — хрипло бросил он. — Лучше воды бы принёс или дров нарубил. От твоих кривых рис не вырастет.
Мать лишь вздохнула и потрепала меня по волосам. Её молчание было красноречивее любых слов. В их мире не было места для красоты цифр. Он держался на рисе, воде и грубой физической силе. Мои закономерности были для них блажью и всего лишь ещё одной странностью. Казалось, я был обречён задохнуться в этой тесноте, но однажды в нашу школу, куда я ходил урывками, приехал проверяющий из уездного центра учитель Ли. Не дядя Ли с канистрой самогона, а другой. Этот был помоложе, в очках с простыми стёклами и с умным внимательным взглядом.
Он задавал детям простые задачи, но они молчали. Когда очередь дошла до меня, то я сначала немного заикался от волнения, но потом начал объяснять не только ответ, но и то, как я вывел формулу для подобных задач, увидев её в узоре на крыльях бабочки.
Учитель Ли замер. Он снял очки, протёр их, надел снова и пристально посмотрел на меня.
— Откуда ты это знаешь? Кто тебя учил?
Я повёл его к своей соломенной постели и вытащил спрятанный учебник. Он взял его в руки как святыню, медленно перелистывая уцелевшие страницы с интегралами и теоремами.
— Не может быть, — прошептал он. — Здесь университетский курс.
В тот же вечер он пришёл в наш дом. Разговор с родителями был тяжёлым.
— У вашего сына редкий дар, — говорил учитель Ли. Отец лишь мрачно смотрел в пол. — Он должен учиться в городской школе. У него есть шанс… вырваться отсюда.
— Вырваться? — усмехнулся отец. — А кто будет воду носить? Кто будет в поле помогать? Его место здесь. Рис должен расти.
Но учитель Ли был упрямым человеком. Он приходил снова и снова, говорил о будущем, о долге перед страной, которая нуждается в умных головах, о стипендиях и общежитиях. Он боролся не только с невежеством, но и с вековым страхом моих родителей перед всем, что было за пределами нашей деревни.
И он победил. Не силой, а настойчивостью. Помню, как в последний вечер отец, выпив свою порцию самогона, положил мне на плечо свою грубую потрескавшуюся руку.
— Иди, — выдавил он. — Китай твоя единственная семья! Стань кем должен. Твоя мать плакала три ночи. Не подведи её.
На следующее утро, сжимая в руках тот самый учебник, завёрнутый в тряпицу, я сел в телегу с учителем Ли и поехал на встречу судьбе. По дороге я смотрел на удаляющиеся огни родной деревни и пока не чувствовал особой радости.