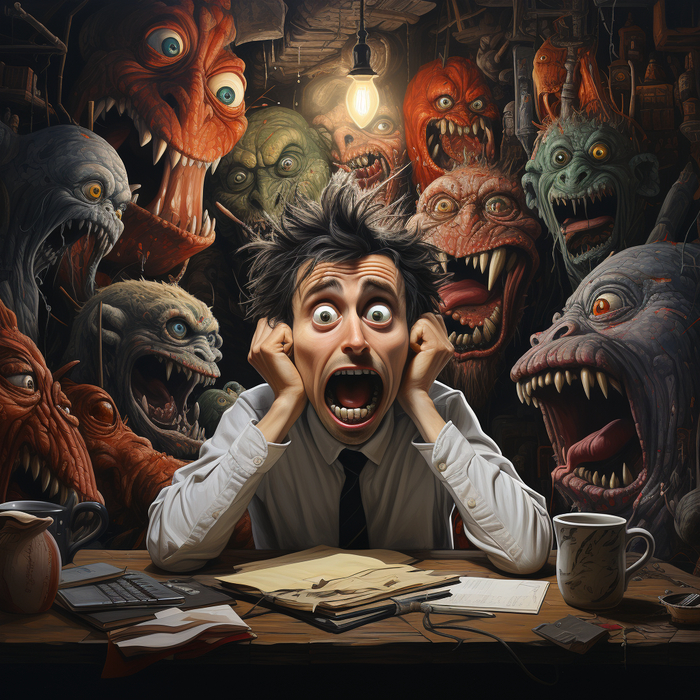1. Докинзианство и проповеди хору
Эта статья – начало серии статей, в которых мы рассмотрим полемические труды британского биолога и публициста Ричарда Докинза. Этот популярный, в том числе у нас, атеистический автор может считаться если не основателем, то, по крайней мере, наиболее ярким представителем определенного подвида атеизма, который я бы так и назвал – докинзианством.
В английском языке есть выражение «проповедовать хору», то есть людям и так уже давно разделяющим убеждения проповедника. Цель такой проповеди – не сообщить аудитории что-то новое или привлечь неверующих. Она должна ободрить и воодушевить тех, кто уже полностью согласен. Это выражение хорошо описывает книги Ричарда Докинза – со стороны они выглядят поразительно слабыми, в то время как у хора взывают восторг. Трудно избежать аналогии с каким-нибудь фундаменталистским проповедником, непоколебимо уверенные речи которого кажутся вершиной мудрости его пастве, но со стороны воспринимаются скептически.
В 2019 году вышла книга Докинза Outgrowing God: A Beginner's Guide («Перерастая Бога: пособие для начинающих»). В основном, говоря о воззрениях Докинза, я буду обращаться к ней – приводя цитаты в моем собственном переводе. Мне это кажется уместным по нескольким причинам: во-первых, учитывая популярность автора, русского перевода ждать недолго, во-вторых, мне хотелось бы опираться на самую свежую версию аргументов оппонента, в-третьих, чего-то радикально нового в книге нет, и человек, знакомый с предыдущими трудами Докинза, безо всяких затруднений поймет, о чем идет речь.
Но перед тем как обратиться к конкретным аргументам автора, сделаем несколько общих наблюдений о самом феномене докинзианского атеизма.
Игнорирование оппонентов
Как это сразу бросается в глаза, автор не приводит каких-то новых аргументов, а только упорно повторяет старые. Если вы ожидали какого-то развития темы, нового поворота дискуссии, вы его не найдете. С момента выхода его бестселлера «Бог как иллюзия» прошло уже 14 лет, вышли десятки книг и сотни статей и рецензий, в которых доводы Докинза подвергались критике, причем как со стороны христиан, так и со стороны атеистов.
Такие известные христианские авторы, как биохимик и богослов Алистер Макграт, оксфордский профессор математики Джон Леннокс, философ Альвин Плантинга, философ Уильям Лэйн Крейг и многие другие весьма тщательно рассмотрели (и опровергли) доводы Докинза. Более того, Докинзу сильно досталось от тех, кто, казалось бы, должен был его поддержать – от агностиков и атеистов.
Известный философ Майкл Рьюз (сам атеист), например, писал: «В отличие от „новых атеистов“ я считаю нужным изучать предмет – и книга „Бог как иллюзия“ Докинза заставляет меня стыдиться того, что я тоже атеист. Докинз просто не дает себе труда разобраться в христианских аргументах, которые он заносчиво высмеивает».
Эта волна критики могла бы вызвать, по крайне мере, какую-то коррекцию в аргументах, но, похоже, прошла совершенно незамеченной. Такое впечатление, что Докинз предпочитает просто игнорировать любые доводы и критику и пишет так, как будто этих 14 лет просто не было.
Безграмотность как принцип
Это игнорирование само по себе является интересным феноменом, который представляется не столько личной особенностью Докинза, сколько качеством всей субкультуры «нового атеизма». Как сказал сам Докинз, когда его упрекнули в безграмотности в вопросах христианского богословия, «Необходимо ли разбираться в лепреконологии, чтобы перестать верить в лепреконов?»
Разумеется, не обязательно разбираться в каких-то верованиях, чтобы их не принимать, но вот для того чтобы содержательно критиковать их, надо понимать, о чем идет речь. Я не разделяю, например, буддизма, но если бы я решил писать объемистые книги, критикующие буддизм, я должен был бы потратить хотя бы некоторое время на то, чтобы разобраться с тем, во что верят буддисты и понять их логику.
Если бы я сделал себе имя (и достаток) на нападках на буддизм, заявляя при этом, что не собираюсь сколько-нибудь вникать в учение, на которое обрушиваюсь, или знакомиться с ответами, которые сами буддисты (и грамотные религиоведы) дадут на мои нападки, я бы выставил себя чрезвычайно самоуверенным и невежественным человеком, недостойным высокой оценки ни с интеллектуальной, ни с этической точки зрения.
Но аналогичные по качеству нападки на христианство вознесли Докинза в ранг «ведущего публичного интеллектуала». Как это срабатывает? Американский христианский философ Уильям Лэйн Крейг говорит о том, что «новый атеизм» – это не феномен интеллектуальной жизни; это феномен массовой культуры.
Беседы между действительно высокообразованными философами о теизме и атеизме проходят на уровне, проникновение на который требует усилий. Книги об этом не расходятся огромными тиражами – обычно покупатели хотят чего-то попроще, хлесткой публицистики с элементами стеба, которая в то же время позволяла бы им ощутить себя причастными к интеллектуальной жизни. Это не трудные книги, которые заставляют вас признать ваши познания недостаточными и тащат вас на более высокий интеллектуальный уровень; это легкие книги, которые уверяют вас, что с вашим уровнем уже все в порядке.
Они внушают вам, что если вы не верите в Бога, это уже делает вас намного умнее блаженного Августина, Декарта, Паскаля, Ньютона, Бойля и большей части человеческого рода вообще – и разве это не здорово? Не слишком толстая и совсем не трудная книжка Докинза дает вам возможность прочувствовать, какой вы молодец, и с завоеванной интеллектуальной вершины бросить гордый взгляд на копошащихся внизу приверженцев нелепых суеверий. Для этой цели книга не может и не должна быть утомительной и предполагать глубокое проникновение в материал. Как сказано в «Письмах Баламута» у К. С. Льюиса, «Самоуверенная тарабарщина, а не аргументы, поможет тебе удержать пациента вдали от церкви. Не трать времени на то, чтобы убедить его в истинности материализма: лучше внуши ему, что материализм силен или смел, что это философия будущего».
Впрочем, Докинз и не скрывает того, что его последняя книга написана для подростков, которым его предыдущий Magnum Opus, «Бог как иллюзия» показался слишком трудным. Это может показаться странным – что же трудного и недоступного подростку в «Боге как иллюзии»? Трудно найти более подростковую книгу! Кто в пятнадцать лет не считал себя умнее всех? Сочетание дремучего невежества с непробиваемой самоуверенностью может быть утомительным, но что же в нем непонятного? Но перейдем к рассмотрению доводов Докинза.
О лозунгах, притворяющихся аргументами
Но книги Докинза интересны с другой точки зрения – как энциклопедия типовых нападок на веру в Бога, которые повторяются раз за разом и самыми разными людьми. Это, скорее лозунги, чем аргументы. Аргумент является частью дискуссии, он живет и меняется, встречая и рассматривая возражения. Лозунги, например, такие как «Религия – причина всех войн!», «Религия – психиатрическое расстройство!», «Нет ни малейших доказательств реальности Бога!» – провозглашаются годами и столетиями, не переживая ни малейших модификаций. Конечно, у лозунгов есть свой смысл и предназначение – опознавать своих, поддерживать чувство причастности к группе, обеспечивать преемственность, но они не являются частью нашей интеллектуальной жизни. Принимать их за аргументы – тем более аргументы решающие – было бы ошибкой.
Лозунг мог когда-то быть аргументом; но когда на него давно ответили, и он отказался реагировать, как-то модифицироваться или просто признать поражение и сойти со сцены, он окончательно перестал, если воспользоваться близким Докинзу биологическим языком, эволюционировать и превратился в живое ископаемое.
Тем не менее, эти лозунги стоит рассмотреть, потому что нам стоит быть готовыми объяснить, что если лозунг когда-то и был аргументом в споре, ответы на него уже давно даны. И только принципиальное невежество, характерное для этого вида атеизма, упорное нежелание знать хоть что-то о реальных взглядах оппонента позволяет принимать их за живые аргументы.
Сделав такое длинное предисловие, перейдем к рассмотрению конкретных лозунгов.
В какого именно Бога?
На вопрос: «Верите ли вы в Бога?», Докинз иронически уточняет: «В какого именно?» «Люди по всему миру на протяжении истории поклонялись тысячам различным богов», – пишет он и перечисляет различных языческих божеств, в разных мифологиях ответственных за разные области жизни.
Этот вопрос был бы понятен в устах советского – или китайского – школьника, который был просто лишен каких-либо знаний о религии, а видел только антирелигиозные карикатуры, в которых Бог Библии изображался в одном ряду с африканскими идолами и бабой-ягой. Но Докинз пишет книги и статьи о религии, причем уже годами и десятилетиями. Как ему удалось не нахвататься за это время хотя бы самых базовых религиоведческих знаний – непонятно.
Очевидно, в европейской культуре вопрос о «вере в Бога» предполагает христианского Бога, шире – Бога этического монотеизма. Ставить этого Бога в один ряд с Одином, Тором, Афродитой или Бахусом, значит, проявлять не неверие, а невежество.
Вы можете полагать и языческих богов, и Бога монотеизма чисто умозрительными концепциями, которым ничего не соответствует в реальности, но вам стоит знать, что это фундаментально разные концепции.
Языческие боги находятся внутри мира, они являются его частью, они, безусловно, более могущественны, чем люди, но не всемогущи. Они напоминают человеческую аристократию, оказывающую покровительство в обмен на подати и изъявления почтения. Между ними постоянно возникают конфликты, и они могут занимать разные стороны в человеческих войнах. Боги могут терпеть поражения друг от друга. Они не обладают ничем похожим на всеблагость, и никак нельзя сказать, что они любят людей вообще. У них могут быть любимцы, – как у аристократов могут быть фавориты, – но никакой всеохватной или, тем более, жертвенной, любви к человеческому роду они не питают. Они едва ли нравственны – Зевс, например, неистово блудлив и изменяет своей жене Гере (бедная богиня!) с кем ни попадя. Впрочем, у него самого было тяжелое детство – его пытался убить родной отец, Кронос.
Бог этического монотеизма находится вне мира и является Его Создателем: как художник находится вне картины, или композитор – вне симфонии. У Него нет конкурентов, с которыми бы Он боролся за власть. У Него нет страстей, которые гнали бы Его к сомнительным приключениям. Он обладает всемогуществом и нравственной благостью.
Понимание того, что Бог Библии – не Зевс, и не Тор, и не Бахус с Афродитой, – это не вопрос веры. Это вопрос минимальной религиоведческой грамотности, которой, увы, Докинз не проявляет. И этот Бог не является «одним из тысяч», что делает довод Докинза просто не относящимся к делу.
Исторически безграмотные аналогии
Докинз пишет: «Я не верую в богов древнего Египта, вроде Озириса, Тота, Нута Анубиса или Хора, его брата, который, как Иисус и множество других богов, как о них говорят, родился от девы».
Многие уже вспомнили знаменитую цитату из «Мастера и Маргариты»: «Нет ни одной восточной религии, − говорил Берлиоз, − в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор».
Аргумент, как видим, успел хорошенько окаменеть уже задолго до Докинза. Но как дело на самом деле обстоит с «множеством богов, рожденных от девы»? Обратимся к другому атеисту, но более грамотному. Специалисту по Новому Завету Барту Эрману, которого Докинз с одобрением упоминает, но, видимо, не читал.
В своей книге «А был ли Иисус» Эрман находит для нас вероятный первоисточник тезиса о “языческих девах, рождающих спасителей”. Это вышедшая в 1875 году книга Керси Грейвса «Шестнадцать распятых спасителей: христианство до Христа» (1875). Грейвс пишет:
“Изучение истории Востока показывает удивительный факт: рассказы о воплощенных богах, напоминающих чудесный персонаж Иисуса Христа, существовали у большинства (или даже у всех) языческих народов древности. Рассказы о некоторых из этих боговоплощений столь разительно схожи с рассказами о христианском Спасителе, – не только в общих чертах, но иногда и в самых мелких частностях (от легенды о непорочном зачатии до легенды о распятии и последующем вознесении на небеса), – что их можно едва ли не перепутать”.
Грейвс приводит ряд примеров, которые потом разошлись по множеству атеистических книг и статей. У него возникает только одна проблема, на которую обращает внимание Эрман:
“Можно спросить: откуда все это взято? Грейвс никак не документирует свои утверждения. Читатель обязан верить ему на слово. Если кто-то захочет проверить, действительно ли с Буддой, Митрой или Кадмом происходило нечто подобное, он не будет знать, куда смотреть. Грейвс не сообщает источники своей информации.
Впрочем, разве он в этом одинок? С тех пор прошло 140 лет, а подобные голословные утверждения кочуют из одной мифологистской книжки в другую”.
Эрман особенно обращает внимание на то, что античный мир не знает никаких “рождений от девы”. У язычников было немало мифов о телесной связи между богами и земными женщинами, но эти женщины, естественно, не были никакими девами, а их полубожественные дети рождались обычным порядком – от близости между мужчиной и женщиной, даже если в роли мужчины выступал языческий бог.
Докинз просто пересказывает старые атеистические фейки даже не пытаясь навести справки и выяснить, на чем основаны представления, которые он предлагает читателю. Глубоко ироничная ситуация, когда люди, язвительно высмеивающие легковерие и всему требующие доказательств, тиражируют явные фейки, возникает в Интернете постоянно – и сам Докинз является одним из наиболее ярких примеров.
Если бы ты родился в другом месте...
Докинз пишет: «Одна из причин, по которым я оставил веру, состоит в том, что когда мне было лет девять, я уже понимал, что если бы я родился в семье викингов, я бы твердо верил в Одина и Тора. Родись я в древней Греции, я бы поклонялся Зевсу и Афродите. В наше время, если бы я был рожден в Пакистане или Египте, я бы верил, что Иисус – не больше чем Пророк, а не Сын Божий, как учат христианские священники... Люди, которые выросли в разных странах, копируют своих родителей и верят в бога – или богов – своей страны. Эти верования противоречат друг другу, и не могут все быть истинными».
Это тезис, который Докинз повторяет годами: «Если вы верите в Бога, то потому, что вы бездумно копируете ваших родителей», – особенно удивительно звучит здесь, в России. В самом деле, перечисляя возможные варианты рождения, Докинз совершенно исключает «если бы вы родились в СССР, или в Китае». Но я как раз родился в СССР, и был воспитан в «научном атеизме». То светлое царство разума и науки, которое западные атеисты еще только мечтают увидеть в будущем, я уже видел в своем прошлом.
Если Докинз призывает меня отвергнуть представления, навязанные мне в детстве, когда я еще не думал своей головой – что же, я именно это и сделал. Но на чем основан сам довод – «в мире существует множество противоречащих друг другу религий, следовательно, ты должен быть атеистом»? Очевидно, на той скрытой предпосылке, что атеизм предполагается позицией по умолчанию. Это не просто одно из мировоззрений, наряду с другими, но стартовая позиция, с которой мы должны рассматривать все остальные взгляды на мир.
Атеизм и бремя доказательства
Но на чем основаны притязания атеизма на то, чтобы быть такой стартовой позицией? Как нам объяснят сами атеисты, на таком понятии, как бремя доказательства. Чтобы поверить во что-то, например, в летающие тарелки, нужны доказательства. А вот чтобы остаться в неверии, никаких доказательств не нужно. Вы не обязаны доказывать, что летающих тарелок не существует, да и как бы вы могли это сделать?
Точно так же и с верой в Бога – это верующие должны предъявлять доказательства, а неверие никаких доказательств не требует, это позиция по умолчанию. Как это формулирует Докинз: «Когда люди говорят о том, что они атеисты, они не имеют в виду, что они могут доказать, что никаких богов не существует. Строго говоря, невозможно доказать, что чего-либо не существует. Мы не можем определенно знать, что богов нет – точно так же, как мы не можем доказать, что не существует фей, пикси или эльфов, или хохгоблинов, или лепреконов, или розовых единорогов; как мы не можем доказать, что Санта Клаус или Пасхальный Кролик, или Зубная Фея не существуют ... но мы в них не верим».
В чем ошибка такой аргументации? Их несколько, но мы пока рассмотрим две.
На атеизме лежит свое бремя доказательства
Конечно, атеисты не обязаны доказывать, что Бога нет. Но, отрицая Бога, они неизбежно выдвигают свои объяснения реальности – и вот их-то они доказывать обязаны. Если я, рассматривая картину, отрицаю существование художника, я не могу просто сказать: «Вы верите в художника, вы и доказывайте его реальность». Я должен ответить на вопрос – откуда же, по моему мнению, взялась картина? Если нет Создателя, то почему существует мироздание? Если нет души, то почему существует сознание, воля, нравственное чувство?
Поэтому атеизм не может оставаться – и не остается – чистым отрицанием. Он предлагает свои объяснения реальности, в частности, реальности человеческого сознания. Рассмотрим, например, декларацию в защиту клонирования, подписанную ведущими атеистическими интеллектуалами мира, и, в частности, самим Докинзом. Вот что в ней говорится:
«Некоторые религии учат, что человеческие существа фундаментально отличны от других млекопитающих, что божество наделило людей бессмертными душами, придав им ценность, не сравнимую с ценностью других живых существ. Утверждается, что природа человека уникальна и священна. Научные достижения, которые могут изменить эту «природу», встречают гневный протест.
Как бы ни были глубоки догматические корни таких идей, мы спрашиваем, должны ли они учитываться при решении вопроса о том, будет ли позволено людям пользоваться благами новой биотехнологии. Насколько может судить научная мысль, вид Homo sapiens принадлежит к царству животных. Способности человека, как представляется, только по степени, а не качественно отличаются от способностей высших животных. Богатство мыслей, чувств, упований и надежд человечества возникает, по всей видимости, из электрохимических процессов в мозге, а не из нематериальной души, способы действия которой не может обнаружить ни один прибор».
Это вполне определенные утверждения о реальности, которые, несомненно, нуждаются в обоснованиях. У нас нет абсолютно никаких причин принимать их по умолчанию. То, что «богатство мыслей, чувств, упований и надежд человечества возникает, по всей видимости, из электрохимических процессов в мозге», – не только не очевидно, но и порождает огромные философские проблемы. Попросту говоря, это мировоззрение абсурдно. Например, если материализм верен, у нас нет свободной воли (что Докинз и другие материалисты прямо признают), поскольку «электрохимические процессы в мозге» полностью подчинены законам природы. Тем не менее, Докинз пишет книги и статьи, пытаясь переубедить людей – так, как будто они, в противность его собственному мировоззрению, обладают свободной волей и могут принять решение рассмотреть его аргументы и изменить свои взгляды.
У нас нет никаких оснований принимать атеизм по умолчанию. Более того, как только мы начинаем задумываться о содержании этого мировоззрения, мы наталкиваемся на непреодолимые противоречия.
Аналогии между верой в Бога и верой в фей неосновательны
Они настолько неосновательны, что, складывается впечатление, мы имеем дело с троллингом – «люди, которые всерьез верят в фей и гоблинов, леших и домовых, глупы и невежественны, и вы, христиане, такие же дураки, ха-ха!». Но примем, что Докинз и те, кто его повторяет, действительно не улавливают разницы и ее нужно объяснить.
Персонажи низшей мифологии предполагаются частью этого мира. Феи и эльфы не всемогущи – и, значит, мы можем застать их врасплох, подвергнуть их наблюдению, знать что-то, чего не знают они. Они нуждаются в пространстве для обитания, в каких-то жилищах, они должны чем-то питаться, следовательно, иметь что-то вроде экономики и сельского хозяйства. У нас должны быть вполне предсказуемые способы их обнаружить – если бы они существовали.
Бог библейского теизма – не часть этого мира. Он Его Создатель. Попробуем привести грубую аналогию. Пространство компьютерной игры может быть населено множеством персонажей – людей, животных, сказочных существ. Но среди них вы едва ли найдете создателя всего этого игрового мира. Вы можете исходить созданный им виртуальный мир из конца в конец и так его и не встретить, хотя, по здравом рассуждении, вы предполагаете, что создатель (или, скорее, раз мы говорим об игре, коллектив создателей) у игры есть – не сама же себя она написала. Вопрос о том, «существуют ли среди персонажей данной компьютерной игры эльфы» отличается от вопроса «есть ли у нее создатель».
Если некоторые игроки пустили слух, что где-то в игре есть секретный уровень с эльфами, а все множество игроков, заходящих на сервера игры по всему миру, его так и не обнаружили, мы можем заключить, что, скорее всего, никаких эльфов там нет, и тратить время на их поиски бессмысленно.
Но это никак не сделает более правдоподобным предположение, что игру никто не создавал и она возникла в результате случайных глюков операционной системы, которую, кстати, тоже никто не создавал.
Подобно этому в сотворенном мире вы не можете набрести на Бога так, как если бы Он был одним из его элементов, или застать Его врасплох, как если бы Его знание или могущество были ограничены.
В том, что я пишу, нет ничего нового – это было известно за столетия до выхода книги «Бог как иллюзия», а после выхода этой книги множество авторов постарались разъяснить это Докинзу, но, увы, его твердый отказ вникать в «лепреконологию» надежно защищает его от исправления ошибок и интеллектуального роста.
Другие утверждения Докинза – тоже достаточно характерные – мы рассмотрим в следующих статьях.
Продолжение следует...
P.S.
✒️ Я перестал читать комментарии к своим постам и соответственно не отвечаю на них здесь. На все ваши вопросы или пожелания, отвечу в Telegram: t.me/Prostets2024
✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.
✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках на «Пикабу». Впереди много интересного и познавательного материала.
✒️ Предлагаю Вашему вниманию прежде опубликованный материал:
📃 Серия постов: Вера и неверие
📃 Серия постов: Наука и религия
📃 Серия постов: Дух, душа и тело
📃 Диалоги неверующего со священником: Диалоги
📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие