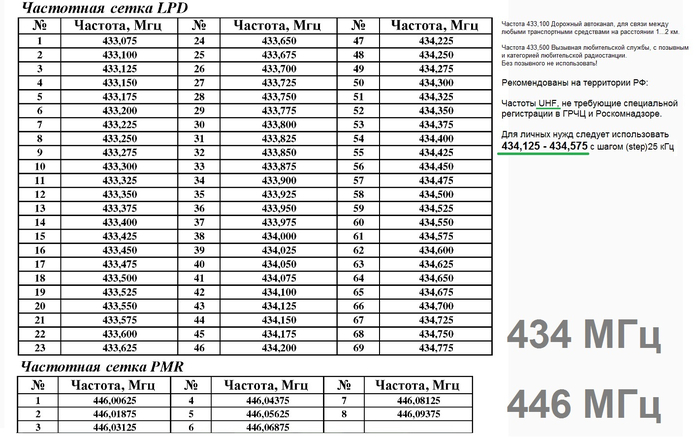Мы еще живы
Генератор у нас весь день кашлял: сначала дёргался, потом задышал сипло, будто в горле застряла ржавая стружка, а к вечеру вытянул последний хрип и смолк. Лампы моргнули два раза — уставшими глазами — и погасли. Темнота не упала одним хлопком, а легла на лагерь тяжёлым мокрым покрывалом, со складками и лоскутами света, которые ещё держались на железных рёбрах. Я стояла у входа в палатку и почему-то считала эти складки, как шрамы.
На два удара сердца стало слишком тихо — та самая тишина, когда слышно, как брезент шуршит от сквозняка, как колонка у ворот делает последний «хрр», как в соседнем ряду коротко, испуганно кашляет ребёнок. Тишина натянулась, как струна, и от этого у меня свело плечи. Мы застыли — вроде бы ждём, что свет вернётся, хотя все понимаем: нет. А потом её разорвали голоса. Сначала шёпотом, с оглядкой на вышку. Потом — грубее, громче:
— К складу!
— Воду!
— Открой!
— По одному!
Слова смешались в один тяжёлый гул, в котором уже не разобрать, кто кричит; гул накатывал волной, и по коже побежала мелкая, холодная дрожь.
Саня вылез из-под железного ящика, где торчали перепутанные провода, вытер руки о штаны — на пальцах осталась чёрная смазка.
— Всё, генератор окончательно умер. Мы его уже не запустим: ни света, ни насоса, ни зарядки, — сказал он спокойно, как про вещь, которую нельзя починить.
Бабушка цокнула языком и поджала губы:
— Я же говорила: кашлял хуже меня. Теперь и пляски вокруг него не помогут.
Дед подтянул под мышку сырой атлас дорог — страницы слиплись, края распухли, — но держал его крепко, как план и память сразу.
Я почувствовала, как лагерь стал тяжёлым и глухим, будто кто-то убрал из него воздух. Я взяла брата за локоть, чтобы он не метался, а Саня оглядел забор и кивнул коротко — пора думать, как уходить, пока шум не стал сильнее.
Илья стоял у сетки и крепко держал монтировку. Он кивнул подбородком вправо:
— Видишь? Там провисло. Щель почти до земли. Пролезем по одному. Я придержу. Только не цепляйтесь за колючки.
Голос у него был негромкий, но спокойный и уверенный — так говорят люди, которые знают, что делают.
Я проверила бинт на руке: он снова отсырел, прилип к коже, тянет. Брат прижался ближе и спрятал пальцы в карман моей куртки, как делает, когда боится показать, что ему страшно. Он дышал слишком быстро. Я наклонилась к нему и сказала так, чтобы услышал только он:
— Смотри на меня. Дышим вместе. Шаг в шаг. Не смотри на склад — смотри на мои плечи. Мы справимся.
У склада уже ревело, как на стадионе. Люди толкались, кричали, рвали друг у друга сумки. Сержант пытался удержать порядок и орал одно и то же:
— По одному! По одному!
Он выстрелил два раза в воздух, но толпа даже не вздрогнула. Несколько человек уже полезли на сетку, как по канату, железо звенело, и от этого звона становилось ещё страшнее — любой шум теперь мог нас выдать.
Вот тогда я его и увидела.
Автобус — жёлтый, облезлый, как чужая вещь, забытая на обочине. Стоит чуть боком, колёса присели, стёкла мутные, на двери щель в ладонь, резинка дрожит от ветра. Вид такой, будто хозяин вышел «на минутку» и не вернулся. Казалось, он нас ждал. Просто ждал.
— Если заведётся — увезёт, — сказал Саня и посмотрел прямо на меня, без бравады, как факт.
— Сможешь? — спросила я.
Он пожал плечами, но голос был уверенный:
— Попробую. Нужен момент — когда у ворот заорут, и никто не посмотрит сюда. И подойти тихо, чтобы дверь не хлопнула.
Дед наклонился ближе, показал пальцем на провис сетки:
— Через этот разрыв и вдоль забора, не в лоб. Дальше по обочине, накатом, без света. Если мост ещё держится — дотянем.
Бабушка сказала глухо, по делу:
— Лишь бы поехал. И чтобы мотор не заорал на весь лагерь.
Я кивнула. Маршрут сложился в голове простыми шагами: пролезть, не звенеть железом, добежать до автобуса, дверь придержать, Саня — под капот, мы — по местам. Без лишних слов.
— Идём вдоль стены, — сказала я тихо. — Аккуратно, без спешки. Железо не трогаем — оно звенит.
Брат кивнул и сжал мою ладонь так крепко, что пальцы побелели, но я не отдёрнула — пусть держится.
Мы двинулись вдоль забора не бегом, а теми шагами, какими ночью идут по комнате, стараясь не задеть стул и не уронить стакан; за спиной гудела толпа, воздух рвали крики — кто-то плакал открыто, кто-то смеялся уже истерически, и от этого смеха становилось только страшнее; пахло мокрым брезентом, ржавым железом, пылью и хлоркой, всё смешалось в один тяжёлый запах, который липнет к горлу.
Пролом был у самой земли. Сетка-рабица прогнила, острые «зубцы» торчали наружу, готовые цеплять куртки. Илья первым прополз на животе, оттянул край и зажал сетку ладонями, чтобы она не дрожала и не звенела.
— По одному, — сказал он спокойно. — Не цепляйтесь. Куртки прижать.
Я протолкнула брата вперёд: он дёрнулся, задел плечом холодный металл, и я сразу шепнула на ухо:
— Тише. Всё нормально. Дыши со мной.
Бабушка проскользнула следом, ловко, как будто делала это всю жизнь; дед осторожно наклонился, прижал к груди свой атлас, чтобы не зацепить края, и прошёл, стараясь не хлопнуть подошвой по железу. Я легла на локти, подтянула колени, убрала рукав с острых проволок и ползком вышла вслед — аккуратно, чтобы сетка не издала ни звука.
Из-за угла к пролому подбежали двое — мужчина в жёлтых кедах и девочка с толстой косой. В глазах у обоих была одна просьба: возьмите нас.
— Можно с вами? — мужчина говорил сбивчиво и смотрел в сторону, не на нас.
— Идите, — кивнула я. — Только тихо. По одному. Куртки прижмите, проволока цепляет.
Он полез первым. Куртка зацепилась за колючку. Он дёрнул сильнее — сетку звякнуло, как струна. У ворот солдат повернул голову, поднял автомат. Короткий хлопок. Мужчина сел на колени, будто его кто-то резко опустил, и завалился на бок.
Девочка схватила его за плечо и потянула к себе, но толпа рванула вбок, сетку качнуло, и колючка хлестнула её по щеке. Чьи-то руки с другой стороны ухватили её за рукав — рывок — и она исчезла в гуле. Я успела только вдохнуть.
— Нет… — выдохнул брат.
— Не смотри туда, — сказала я и потянула его дальше. — Дыши. Держись за меня. Шаг — и ещё шаг.
Саня пролез последним. Он оглянулся на секунду — коротко, трезво — и сказал тихо:
— Здесь всё кончено. Пошли.
Мы выдвинулись к автобусу. Снаружи воздух был другой — мокрая пыль, холодный металл, сырость от земли. Автобус стоял там же, боком к дороге, будто ждал нас всё это время.
Бабушка едва заметно перекрестилась. Дед сжал под мышкой карту так крепко, будто бумага отдавала ладони тепло.
— Ну, старик, не подведи, — сказал Саня уже возле бампера. Я поняла: он обращается к автобусу. Он пошёл к капоту, не суетясь, и я услышала, как щёлкнул замок.
Я взглянула на брата: он дрожал, но кивнул мне — так, будто сказал без слов: «Я с тобой».
— Мы ещё живы, — прошептала я ему. И в ту секунду впервые сама поверила этим словам.
Внутри автобус пах старой тканью, пылью и чем-то тёплым — как в школьном спортзале, куда вернулись после каникул. Краска облезла, стекло мутное. В дверях — тонкая щель, ветер шевелил резинку, она тихо щёлкала, и от этого звука на душе становилось спокойнее: живое.
Саня провёл ладонью по капоту, как по спине у старого пса, и без бравады сказал:
— Дайте мне пару минут. Посмотрю, что тут цело, а что нет.
— Только не ломай, — буркнула бабушка. Мы все знали: ломать он не станет, это она так борется со страхом.
Дед приподнял атлас, улыбнулся краешком губ:
— Если что-то щёлкнет — это я. Привычка — лампочку поправлять.
Илья встал у двери и держал створку, чтобы она не хлопнула и не выдала нас звуком. Я подтянула ремень рюкзака, пальцами проверила монтировку на лямке — ткань на рукояти сухая, не звенит, держит крепко. Брат стоял рядом, делал вид, что не дрожит. Я коснулась его локтя и сказала шёпотом: «Я здесь». Он не кивнул, просто выдохнул длиннее обычного, и этого хватило.
Саня открыл капот — железо вздохнуло, как дверь в сарае. Он вытащил щуп, провёл по нему пальцами, глянул на свет и спокойно отчитал, будто список покупок:
— Масло есть. Не свежее, но ходит. Ремень цел. Фильтр не трогаем — тут всё на честном слове.
— Колёса? — спросил дед.
— Круглые, — усмехнулся Саня. — Дальше слушаем, как он разговаривает.
Я сходила к ближайшей мастерской. Вывеска держалась на одном болте и дрожала от ветра, как зуб перед выпадением. Внутри пахло мышами, железом и старой работой. Под верстаком нашла шланг — липкий, с плёнкой масла, рядом валялась резиновая груша, помятая, но целая. Я сполоснула шланг в луже — толку немного, но лучше так, — и вернулась к своим. К этому времени Илья уже вытащил из-под переднего сиденья пустую канистру; на боку у неё шла чёрная полоса, как шрам.
— Будем тянуть с трактора, — сказала я. — На углу двор дорожников, там ДЭУ, у них трактор стоит.
— Пойдём вместе, — Илья посмотрел на меня ровно. — Вдвоём быстрее перетащим.
— Я с вами, — брат шагнул вперёд.
— Ты — со мной, — бабушка мягко взяла его за рукав. — Разложим бинты и лекарства сейчас, чтобы потом в темноте не копаться.
Брат покосился на меня — искал разрешение. Я кивнула: правильно. Пусть останется с бабушкой, а мы с Ильёй быстро возьмём топливо и вернёмся, пока лагерь не сорвался в крик.
Трактор стоял у забора как памятник: резина распухла от грязи, в кабине выбито стекло, в горловинах баков — тёмные овалы. Мы протянули шланг, надели на него резиновую грушу, а в горло нашей канистры я вложила сложенный вдвое бинт — фильтр из того, что было под рукой. Илья качал ровно и терпеливо, будто из земли выжимал молоко. Сначала капало лениво, потом пошла толстая, маслянистая струя с запахом подвала и железа. Я слушала, как дизель шлёпается о пластик — это был самый правильный звук за день.
— Сколько? — Илья не переставал давить грушу.
— Сколько перелезет, — сказала я. — Нам бы просто выйти из города.
— Выйдем, — ответил он так, будто иначе не бывает.
Когда канистра потяжелела, мы взяли её вдвоём. Руки тянуло, спина ныла, но это была полезная боль — собирала мысли в одну дорожку: шаг — дыхание, шаг — дыхание. Саня уже открутил крышку бака автобуса, мы вставили шланг, и тёмное ушло внутрь с тихим довольным звуком. Бабушка в это время сидела на ступеньке и перебинтовывала мне руку заново — туго, надёжно, без жалости, как надо.
— Потерпи, — сказала она. — Лучше один раз крепко.
— Держусь, — ответила я.
Дед, присев на корточки, вынул из сумки маленькую отвёртку и поджал контакт в плафоне салона.
— Нам не ярко, — пояснил, хотя никто не спрашивал. — Нам — чтобы не вслепую.
— Нам — спокойно, — откликнулся Саня из-под капота. — И чуть-чуть удачи.
Пахло дизелем, мокрой пылью и старой тканью. Гул лагеря ещё катился сзади, как дальняя гроза, но здесь он был уже тупее и дальше. Я поймала себя на том, что впервые за день дышу ровно.
— Вода? — спросила я.
— Вон там, — брат показал на синюю бочку у гаражей. — Крышка заклинена, но я смогу. Если монтировку…
— Давай, — кивнула я. — Только береги пальцы. Подложи тряпку под кромку, чтобы железо не звякнуло, и прикрой крышку ладонью через ткань. Льём через марлю — лишнее задержит.
Мы вдвоём поддели крышку, и она поддалась с жалобным звуком, будто выпустила воздух, который держала с осени. Запах был тяжёлый — ржавчина, сырость, пластик, — но вода была живая, не тухлая; пить можно, если кипятить, а кипятить мы будем завтра, когда появится время и огонь. Сейчас мы просто разлили воду по бутылкам: чистые — в один ряд, «сомнительные» — отдельно. Бабушка маркером вывела крупно «КИПЯТИТЬ» и ещё раз пересчитала всё взглядом — у неё в голове всегда был порядок: чистое к чистому, тёплое к тёплому, живое к живому.
— Еда? — спросил Саня, вытирая ладони о тряпку и уже смотря в сторону двери автобуса, будто слушал, как там себя чувствует мотор.
— «Продуктовый» рядом, — сказала я. — Зайду с Ильёй и братом. Быстро. Без рысканья.
Дверь магазина держалась на щеколде, кто-то когда-то закрыл её по привычке. Монтировка вошла под кромку легко; стекло вздохнуло и осело, как лёд на луже в тёплый день. Внутри пахло сахарной пылью и картоном — словно здесь до сих пор шептались конфеты. Мы брали глазами и руками: галеты, сухари, две банки тушёнки, сгущёнка, соль, чай, несколько банок шпрот — «на мораль», шесть бутылок воды, свечи, спички, зажигалка. Я стянула со стойки рулон мусорных пакетов — они всегда выручают и под еду, и под страх. Брат аккуратно отодвинул носком большой осколок от моих ботинок, чтобы я не порезалась, и тихо сказал:
— Давай быстрее, а? Здесь стены будто слушают.
— Я слышу то же, — ответила я. — Пошли.
У автобуса нас уже ждали. Дед держал карту на коленях, как ребёнка, — не ради позы, а потому что бумага грела ладони. Бабушка аккуратно складывала бинты обратно в сумку, перебирая каждый, как нитку. Саня стоял у открытой двери и смотрел не на нас, а вдоль дороги, туда, где серые лужи тянулись цепочкой.
— Голос у него будет громкий, — кивнул он на автобус. — Но не злой. Пойдём спокойно: где можно — накатом. Без ближнего, пока светло.
— Лишь бы поехал, — бабушка провела ладонью по поручню, как по плечу живого.
Они подбежали и остановились метрах в десяти, будто перед краем ямы. Мужчина с сединой держал в руке связку ключей и без конца перебирал их пальцами — звякнуло, и он тут же спрятал ладонь в карман. Женщина с красными руками прижимала к груди пустую кастрюлю с вмятиной, как вещь, которую нельзя бросить. Плечи у обоих — вниз, лица — простые, усталые.
— Пожалуйста, возьмите нас, — сказал мужчина ровно, без крика. — Мы вдвоём. Без вещей. Сядем на пол. Молчать будем.
Женщина кивнула:
— Я бинтую быстро, у меня в медпункте работала рука. Буду полезной.
Мы молчали секунду — слишком живую. Саня смотрел в землю, дед сжал карту, бабушка крепче взяла брата за рукав. Я чувствовала, как внутри шевельнулась надежда, и знала: если сейчас скажу «да» — нас станет больше, но дальше мы можем не доехать.
— Мы бы взяли, — сказала я честно. — Но не потянем. Шестеро — это наш предел. Бензин у нас впритык, места нет, шум убьёт нас на первом повороте. Мы не лагерь.
Мужчина кивнул, будто это уже слышал раньше.
— Понимаю, — сказал он. — Тогда хоть скажите — куда идти.
Дед поднял голову:
— К развязке два поворота, держитесь низины, не идите по верху, там ветер тянет звук. Без света. Если услышите «щёлк-щёлк» — замрите и ждите тишину.
Я протянула женщине две бутылки и пачку галет, сверху — маленькие свечи. Бабушка сняла с себя тонкий шерстяной шарф и обмотала женщине запястья, чтобы согреть.
— Спасибо, — сказала женщина и тут же спрятала глаза.
— Дойдёте, — сказал Саня тихо, наконец подняв взгляд. — Идите сразу. Пока гул не вернулся.
Они постояли ещё миг, будто ждали чуда, которого нет, и ушли вдоль кромки, не оборачиваясь. Мы смотрели им вслед молча, пока звяканье ключей не исчезло в сыром воздухе.
— По местам, — сказал Саня. Голос тихий: это была не команда, а просьба.
Мы залезли. Я — на первый ряд, рядом с дверью. Брат сел ко мне и упёрся лбом в моё плечо. Бабушка устроилась ближе к середине, где меньше трясёт. Дед — напротив, карту не убирает, держит на коленях, словно она греет ему руки. Илья — у двери, чтобы держать створку и не дать ей хлопнуть. Саня сел за руль, положил ладони на обод, как на живот — осторожно, по-домашнему.
— Ну давай, старик, — сказал он автобусу. — Дай нам шанс, а?
Ключ повернулся туго. Стартер кашлянул раз, другой, будто собираясь с силами, и наконец мотор взял ровный, низкий гул — хрипловатый, но живой. Вибрация пошла по полу и поручням, дошла до моих ладоней — не страшно, а как если бы кто-то поставил руку мне на спину и сказал: «толкаю».
— Аллилуйя, — выдохнул дед.
— Не сглазь, — сказала бабушка.
Саня мягко отпустил педаль, и автобус покатился. Свет не включали: толку мало, да и день ещё не умер. Колёса подхватили уклон, и машина скользнула по мокрому асфальту, как рыба в узкой воде. Слева серели гаражи, справа из кромки земли торчали прошлогодние стебли.
— Сань, — сказала я, — если мотор начнёт кричать — сбрось. Пожалуйста.
— Слышу, — ответил он, не отрывая взгляда от дороги. — Я и сам не люблю, когда на меня кричат.
Мы проехали мимо остановки. На стекле висело расписание на скотче: держался один угол, и бумага хлопала, будто звала нас по имени. Рядом витрина «Мир Цветов» — буквы выгорели, осталось «…и ветов». От этой нелепости стало и смешно, и больно одновременно: мир был, а теперь — обрезки.
— До окружной дотянем, — дед показал вперёд, не отрывая пальца от карты. — Там дорога легче.
— Только не через стадион, — сказала бабушка. — Там эхо, как в бочке: любой звук за три квартала слышно.
— Обойдём, — кивнул Саня.
Мы каждый думали своё и молчали. Я достала из бокового кармана зелёную школьную тетрадь — косая линейка, ободранный уголок. Накрыла её ладонью, чтобы лист не дрожал на кочках. Ручка шаркнула по бумаге. Я написала крупно и неровно: мы ещё живы. Пока чернила блестели, я почувствовала, как внутри распрямилась тугая проволока — не до конца, но хватило, чтобы дышать ровнее.
— Что пишешь? — брат спросил без любопытства, просто чтобы услышать мой голос.
— Самое важное, — сказала я. — Потом покажу.
Илья откинулся на спинку и прикрыл глаза — не спал, слушал, как мотор гудит ровно. Бабушка пересчитывала бинты — не потому что забыла, а чтобы руки не сидели без дела. Дед вёл пальцем по карте, как по знакомой иконе. Саня иногда стукивал ногтем по панели — не суетился, а проверял ритм, чтобы всё шло как надо.
Мы вышли на окружную. Серое полотно тянулось между полем и низким лесом. Ветер тронул бок автобуса — как ладонь: не толчок, а поддержка. За спиной город шумел уже не нами, и этот шум уходил дальше. Впереди было пусто — и от этой пустоты становилось спокойнее.
— Сань, — сказал дед, не поднимая головы, — если повезёт, через два часа будем у развязки. Там переждём. А завтра — к мосту.
— Повезёт, — Саня улыбнулся одним уголком. — Сегодня у нас хороший день: мы поехали.
Я закрыла тетрадь, сунула её под сиденье, чтобы не мешала, и посмотрела в окно. На лямке рюкзака покачивался маленький медвежонок — детский, смешной, как будто из другой жизни. Я тронула его пальцем. Брат, не глядя, тоже коснулся лапки — и на секунду показалось, что мы просто заблудились и сейчас найдём дорогу назад, в то время, где всё было целым.
«Мы ещё живы», — повторила я про себя. Дорога словно согласилась: мягко качнула нас, как лодку, и повела дальше.
Мы въехали в место, где дорога сужалась и звук собирался в один коридор. Слева тянулись низкие гаражи, железо вздулось ржавчиной; справа — бетонные блоки с выцветшей диагональю и полустёртым «СТОП». Здесь воздух работал как труба: любой шорох вытягивался в нитку и возвращался вдвое громче.
— Пять минут, — сказал Саня, глядя на стрелки и слушая мотор ухом. — Надо дать ему глоток. И перевязку сделайте сейчас — потом некогда.
— Снимай рукав, — сказала бабушка. — Потерпи.
Я стянула рукав. Марля была холодная, пальцы у бабушки — тёплые и уверенные. Брат держал две пластиковые бутылки и оглядывался, как кот у незнакомой двери.
— Просто стой рядом со мной, — сказала я тихо. — Никуда не уходи.
Саня кивнул Илье:
— Сгоняем к будке, глянем, нет ли там чего живого.
— Иду, — ответил Илья. Взял монтировку привычным хватом — не геройствовал, просто держал вещь, которую знает.
Они ушли под навес. Там пахло мышами, старым бензином и мокрым деревом. В будке нашлась канистра с дырой — как ведро сойдёт, — и моток тряпья.
Бабушка затянула бинт ещё крепче.
— Лучше туго, чем поздно, — проворчала она, не отводя рук.
— Терплю, — сказала я, хотя в глазах защипало от боли и холодной марли.
Брат поддел крышку у синей бочки — тугой, гладкий пластик.
— Осторожно, она… — начал он.
Крышка сорвалась с хрустом и ударилась о бетон. Звук побежал по «трубе» между гаражами и вернулся назад — резкий, как щёлчок по зубам.
— Я… я сорвал, — брат сглотнул, голос дрогнул. — Прости.
— Это не твоя вина, — сказала я сразу. — Стой рядом со мной. Дыши ровно. Я здесь.
Где-то в коридоре между боксами ответил короткий «тик», потом ещё один, третий — будто камешком по стеклу. Из щели вышел первый: высокий, вытянутый, голова повёрнута боком, уши как будто слушают. Глаза мутные. Следом выполз второй — ниже ростом, резкий, как нож. Они шли прямо на наш звук — на крышку, на наш шум дыхания.
— Саня, — позвала я вполголоса.
Он обернулся, и лицо стало жёстким.
— Все назад, в автобус. Тихо. — без крика, ровно и понятно.
— Это из-за меня… — брат прошептал, глядя в пол.
— Слышишь меня? — я положила ему ладонь на затылок. — Ничего. Сейчас важно одно: держись за меня и иди рядом.
Илья шагнул вперёд. Ни поз, ни слов — просто шаг, как делают, когда выбора нет.
Первое существо рвануло прямо, и Илья встретил его монтировкой в плечо. Удар вышел глухой, мокрый, будто бревном по пню. Тварь отлетела, щёлкнула зубами — неровно, как сломанный метроном.
Второе уже было справа: вцепилось в бок и плечо, тело у него сухое, пружинит. Илью вжало в железную стенку гаража; от удара по металлу у меня свело зубы, низкий звон прошёл по костям.
— Давай! — Саня сорвался с места. — Держи его!
— Ещё секунду… — выдохнул Илья; лицо посерело, дыхание сбилось.
Монтировка от сырости скользнула в ладони, на рукояти синяя изолента блеснула мокрым. Я распахнула дверь шире. Бабушка уже поднялась — сдавила в руке свежую марлю. Дед сжал карту, чтобы лист не дрожал.
— Внутрь! — крикнул Саня. Это была не команда, а просьба — почти мольба.
Мы рывком потянули Илью. На миг я увидела зубы твари — в них застряла белая нитка подкладки его куртки. Саня сорвал Илью с железа, и мы потащили его к автобусу. В этот момент боковой карман моей куртки разошёлся — клапан я не застегнула, спешили. Зелёная тетрадь выскользнула, стукнулась о ступеньку, перевернулась и покатилось по бетону прямо в лужу у блока «СТОП». На странице «мы ещё живы» чернила поползли, как тушь под дождём. Я дёрнулась, но брат схватил меня за рукав.
— Не надо. Пожалуйста, — прошептал он совсем тихо.
Саня впихнул Илью внутрь. Я захлопнула дверь — по стеклу сразу пошла тонкая паутинка трещин. Снаружи тварь ударила ладонями по борту — глухо, как шкаф о стену.
— Жми газ, — хрипло сказал дед.
— Жму, — Саня провернул ключ.
Мотор сначала закашлял, потом поймал дыхание и вышел на низкий ровный гул. Автобус дёрнулся, колёса ухватили грязь у кромки, и мы пошли.
В салоне пахло железом, кровью и дизелем. Бабушка держала марлю обеими руками у Ильиного бока — крепко, как держат жизнь. Он дышал неровно, у губ выступила бледная пена.
— Он будет жить? — спросила она тихо, не поднимая глаз.
— Пока держится, — сказал Саня, не оборачиваясь. — И мотор держится тоже.
— Воду… — Илья шевельнул губами. Я поднесла флягу, он не смог глотнуть. — Монтировку… не… — язык споткнулся.
— С нами, — сказала я. — Я держу её. Лежи спокойно.
Мы выскочили на ровный участок. За окном промелькнул бетонный блок со словом «СТОП» и лужа, где лежала моя зелёная тетрадь — прямоугольник в грязной воде. Буквы уже расползлись. Я отвернулась и прижала брата к себе плечом — его мелко трясло, как в лихорадке.
— Дыши, — прошептала я. — Я рядом.
Илья шумно вдохнул, выдохнул, взял меня взглядом — ясным, на секунду, будто хотел сказать что-то самое простое, земное: «не забудь…» — и взгляд ушёл в сторону, словно кто-то выключил свет. Тело потяжелело на моём колене, рука сползла, монтировка ткнулась мне в ботинок.
— Илья… — позвала бабушка. В её голосе не было надежды, только забота. Она всё ещё держала марлю — руки у неё так устроены: держать до последнего.
Никто не сказал «он умер». Мы поняли без слов. Дед сложил карту, чтобы не мять угол. Брат закрыл лицо ладонями, но не заплакал — сидел так, как сидят те, кому вдруг выдали возраст. Саня вёл так, будто держал нас всех на плечах: ровно, тихо, без рывков.
— Терпим, — шепнула бабушка, убирая окровавленную марлю в пакет. — Дальше идём. Все.
Я положила ладонь на рукоять монтировки — она была липкая от сырости и тёплая от наших рук. Сказала негромко, чтобы слышали только те, кто в этом круге:
— Мы ещё живы.
Автобус качнуло. Шум блокпоста остался позади. Дорога тянулась вперёд, как нитка, и держала нас столько, сколько могла.
К вечеру небо не посерело — оно стало тяжёлым. Мы ушли от гаражей, и тот гул отстал, как хвост, но внутри у каждого ещё звенело, будто в грудь поставили пустую банку. Саня вывел автобус на окружную, и мы докатились до развязки: бетонные «ноги» мостов, пустота под ними, ветер, который крошит сухую пыль и делает вид, что это туман.
— Здесь, — сказал дед. — Дальше в темноте только хуже.
Саня кивнул, заглушил мотор. Тишина сразу расправилась и заняла всё место.
Свет не включали. Только свеча в жестяной банке — маленький огонь, как глаз. Бабушка разложила бинты на сиденье и перебрала, что осталось чистым. Монтировка лежала у моих ног; рукоять липкая, и от этого казалось, что у железки своя память.
Брат сел рядом и молчал. Лицо у него было такое, как у тех, кто слишком быстро повзрослел: взгляд вперёд, губы спрятаны. Я накрыла его ладонь своей. Он не отдёрнулся.
— Надо поесть, — сказала бабушка обычным голосом, как говорят «пора спать». — Хоть по куску. Иначе ноги откажут.
— Через силу, — кивнул дед, будто отвечал на молитву. — Раньше мы это говорили людям, а теперь — себе.
Мы вскрыли пачку галет, открыли банку тушёнки. Запах вышел тёплый и жирный, и от него стало стыдно: сегодня этот запах напоминал о теле и о жизни. Саня отломил галету, жевал, не глядя, как человек, который не помнит, ели ли вообще сегодня.
— Я не должен был лезть к будке, — сказал он, не поднимая головы.
— Хватит, — бабушка положила ему на ладонь половинку печенья. — Не начинай «если бы». Съешь и запей.
Саня усмехнулся краем рта:
— Есть — это я умею.
Дед разложил карту у себя на коленях. Свеча дрожала, и зелёные линии дорог на бумаге будто шевелились — от этого казалось, что карта живая и сама подсказывает путь.
— Завтра выходим рано. Мост… — он провёл пальцем, — поломанный. Есть обход вдоль реки. Дольше, но без людей.
— А бензин? — спросил Саня.
— Хватит, если идти накатом, — дед поднял глаза. — И если не стоять в пробке, которой уже нет.
Мы переглянулись. Слова «люди» и «мост» сегодня были как шипы. Я проглотила сухой комок — то ли кусок галеты, то ли что-то, что застряло внутри и не хотело проходить.
— Я виноват, — сказал вдруг брат. Тихо, но так, будто хотел, чтобы услышали все. — Это я сорвал крышку.
— Нет, — ответила я сразу. — Не крышка убивает. Шум — да. Но не крышка.
— Илья… — он не договорил.
— Илья погиб, потому что прикрывал нас, — сказал Саня просто. — Это мы — его работа. Плохая это правда, но правда.
Брат резко кивнул. Слёзы не пошли — сил не было.
Мы сидели, и тишина постепенно перестала звенеть, стала просто тишиной. Сверху по мосту прошёл ветер — металлический шорох, как рубашка по гвоздю. С реки тянуло сырым.
— Дай сюда, — дед вытянул ладонь. — Что это у тебя?
Брат достал из кармана мятый обрывок бумаги — кусок этикетки, с обратной стороны место для цены. Карандаш — крошечный, обгрызенный.
— Писать хочешь? — спросила я.
— Ну… вместо тетради. Чтобы не забыть, — он пожал плечами. — Ночью всё стирается.
Мы молча пододвинули ему свечу. Он написал крупно, по-детски криво: «Мы ещё живы». Посмотрел на меня — не за разрешением, а проверяя, правильно ли звучит. Я кивнула. Он дописал ниже: «Илья. Сегодня». Дату долго считал по пальцам, потом вздохнул и поставил: «вторая весна».
— Положи в карман, — сказал дед. — Бумага любит тепло.
Бабушка собрала окровавленные марли в пакет. Вытерла руки влажной тряпкой, как перед тем, как браться за хлеб. Потом посмотрела на нас так, будто снова примеряла каждого: целы ли, сухи ли, не пустые ли глаза.
— Спать по очереди, — сказала она. — Я первая посижу. Старые мало спят.
— Я после, — кивнул Саня.
— Я — с бабушкой, — сказал брат.
— С бабушкой я, — сказала я и улыбнулась, чтобы он лёг спокойно. — А ты — рядом и под куртку.
Свеча тихо потрескивала в жестянке; капля воска упала на карту и застыла бусиной у изгиба реки. Мы устроились на ночлег как умели, и тишина наконец стала терпимой — у неё появился вес, который можно выдержать.
Брат послушался неожиданно легко: лёг, подтянул куртку к подбородку и уткнулся лбом мне в плечо. Дышал неровно. Я гладила его по волосам — медленно, не чтобы усыпить, а чтобы сердце не сорвалось в бег.
— Завтра, — тихо сказал дед, глядя в карту, — если всё сложится, увидим отворот на старую плотину. Если не сложится — увидим что-то другое.
— Это ты оптимист? — хмыкнула бабушка. — Или реалист?
— Я про дороги, — дед улыбнулся краешком губ. — Про людей я давно не говорю.
Саня поднялся, проверил дверь, потрогал резинку, чтобы не хлопнула на ветру. Поставил у порога две пустые бутылки — не «растяжка», просто чтобы не катались. Вернулся на место и опёрся затылком о стекло.
— Спасибо, — сказал он в пространство. Не нам и не себе — просто сказал. Потом закрыл глаза «как будто». Я знала: он слушает мотор даже когда тот молчит.
Свеча треснула и потекла по жестянке. Бабушка шептала свои короткие, как гвоздики, молитвы — без имён и просьб, просто: «Спасибо, что дожили». Дед погладил карту, сложил аккуратно и положил под сиденье — как подушку. Он всё время делал вид, что это не страх, а порядок.
— Ты спишь? — прошептал брат.
— Нет, — сказала я. — Слежу за твоим дыханием.
— А моё дыхание… оно… — он поискал слово, — неустойчивое.
— Нормальное, — я улыбнулась, хотя он не видел. — Сегодня у всех «по кочкам». Завтра будет ровнее.
— Завтра… — повторил он и затих.
Я сидела и слушала. Сверху шептал бетон моста, где-то далеко одинокая собака гавкнула один раз и тут же стихла, будто поняла, что шум здесь дорогой. Ветер приносил запах мокрого дерева и речной холод. Автобус остывал, время от времени постанывал металлом. Рядом тихо посапывал брат. И в этот момент меня резко кольнуло простое знание: Ильи нет. Будто в нашем круге образовалась вмятина, и мы каждый незаметно подвинулись, чтобы закрыть её собой.
— Ты не спишь, — сказала бабушка, не поворачиваясь.
— Не сплю.
— И я не сплю, — ответила она. — Старые не спят, когда дети дышат во тьме.
Мы сидели так долго. Потом Саня поднялся на вахту, проверил дверь и замер у стекла; бабушка наконец согласилась прилечь, подложив сумку под голову; дед уже дремал по-стариковски — с одним ухом настороже. Я ещё немного держала брата, пока его дыхание не стало ровнее, и прошептала в темноту — не заклинание и не просьбу, просто слово, за которое держится ладонь:
— Живы.
Продолжение по ссылке - https://author.today/work/492736