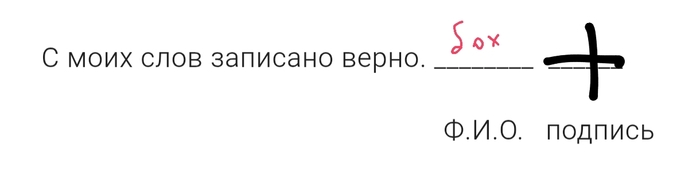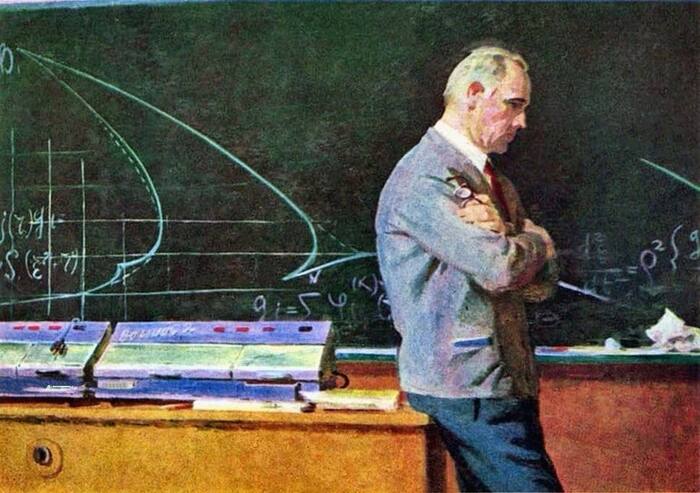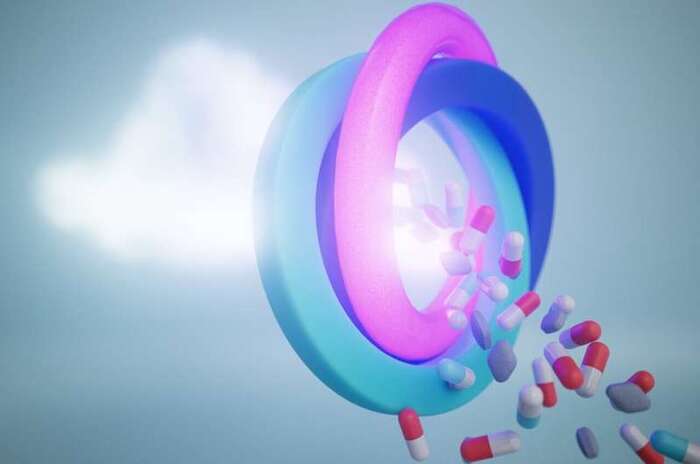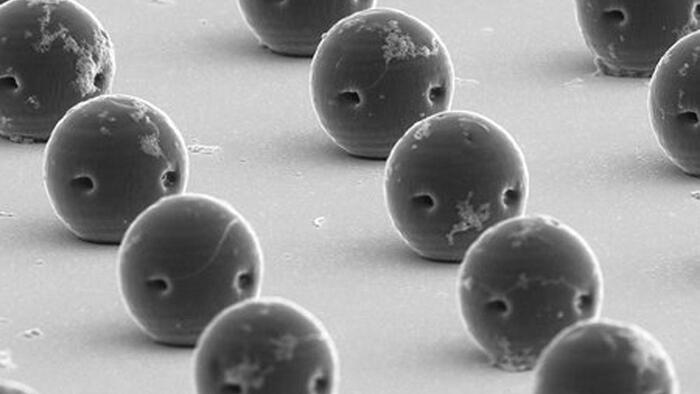Для полного погружения я настоятельно рекомендую слушать видео-версию в исполнении мастера ужасов Ильи Дементьева. Его голос придает истории новую глубину.
Дневник Марка Ковалева, станция «Полюс-42». Ориентировочно: третий год после инцидента.
Текстовая версия истории:
Температура снаружи: -62°C. Внутри: -31°C. Атмосферное давление стабильно низкое. Ветер восточный, 18 м/с. Последняя банка тушенки разделена на шестерых три дня назад. Варили бульон из кожаных ремней. Он не дал сил, но обманул желудок на несколько часов. Анна кашляет. Кашель стал глухим, влажным. Это плохо.
Сергей сегодня не вставал с койки. Говорит, что ему тепло. Это галлюцинации от истощения. Я пытался заставить его съесть кусок столярного клея, который мы выкопали из мастерской. Он отказался. Шепчет что-то о голосе в вентиляции. О «Белом шёпоте», который зовет его гулять. Все игнорируют. Легче считать его сумасшедшим, чем признать, что мы все на грани.
Сергея нашли в углу нижнего склада. Он сидел, поджав ноги, и… жевал. У него были обморожены пальцы на правой руке, почернели до второго сустава. Он обгладывал их до кости. Его глаза были стеклянными, а на лице — блаженная, идиотская улыбка. Он сказал: «Они мертвые. Шёпот сказал, что можно. Они же не почувствуют». Мы заперли его в кладовой. Его тихий смех до сих пор ползет по металлическим трубам.
Сергей замолк сегодня утром. Я заглянул в глазок — он замерз, сидя в той же позе, с улыбкой на лице. Мы молча вынесли тело в самый дальний отсек, к генератору, и так же молча вернулись. Никто не проронил ни слова, но в воздухе повис вопрос. Тяжелый, нагнетающий. Мы все его слышали и отводили друг от друга взгляд.
Анна не проснулась. Ее рука, которую я держал всю ночь, стала холодной и жесткой, как ледышка. Я не плакал. Слезы быстро замерзают на глазах. Я просто сидел и смотрел на ее лицо. Оно было удивительно спокойным. Без гримасы боли и голода, которая не сходила с него последние месяцы.
Я вышел в коридор. Их было двое: бортинженер Петрович и врач Лида. Они уже стояли там, их бледные лица были обращены ко мне. Они слышали, как я несколько часов назад звал ее имя и безуспешно пытался растереть ее окоченевшие руки. Они всё уже поняли.
Единственное, что я спросил, это:
— А где Никита?
Все просто пожали плечами. Взгляд Лиды скользнул мне за спину, туда, где лежало бездыханное тело Анны.
Мы молча прошли в столовую. Взгляд Петровича упорно скользил по полу. Он подошёл к ближайшему столу и наклонился. Раздался глухой скрежет — он выдвинул ящик. Достав оттуда ножовку по металлу, он положил её на столешницу и присел напротив. Её зубцы были чистыми, но возле рукоятки металл темнел от ржавых разводов.
— Она замёрзла, Марк, — сказала Лида, не глядя на меня. Ее голос был плоским, лишенным всяких интонаций. — Зачем хоронить еду?
Петрович молча смотрел на ножовку. Его огромные, когда-то сильные руки лежали на столе, как чужой, бесполезный груз.
Я ничего не сказал. Я видел, как мускулы на его шее сжались. Он сглотнул слюну. Я понял, что сделал то же самое. Мой желудок предательски свело от спазма. Дикого, нарастающего, стирающего всё на свете.
Я отступил в свой отсек, захлопнув дверь и прислонился спиной к холодному металлу. Мое дыхание вырывалось белыми клубами. Я лихорадочно листал дневник, перечитывал свои аккуратные колонки цифр, отчеты о погоде, которые больше никому не были нужны. Я искал там себя. Того, кто верил в науку, в логику, в человечность.
Но страницы были просто бумагой. Цифры — просто чернилами. Они не могли согреть. Не могли накормить.
Снаружи послышался мерный, упругий скрежет. Ш-ш-шк… ш-ш-шк… Они точили ножовку. Готовили инструмент.
Я зажмурился, пытаясь заглушить этот звук. Но он был словно внутри меня. В такт ему стучало мое сердце. И сквозь его стук, сквозь вой ветра снаружи, я начал слышать другое. Тихий, разумный, успокаивающий голос. В нем не было безумия. Только холодная, безжалостная логика.
«Она мертва. Ее плоть не чувствует боли. Это просто мясо. Белок. Возможность прожить еще неделю. Разве неделя твоей жизни ничего не стоит? Это рационально. Это правильно.»
Это был Белый шёпот. И он звучал не из вентиляции. Он звучал у меня в голове. И он был прав.
Я открыл глаза и перевернул страницу дневника. На чистом поле я вывел ровным, каллиграфическим почерком: «Температура снаружи: -63°C. Внутри: -30°C. Атмосферное давление стабильно низкое» и отложил карандаш.
Звук прекратился. Наступила тишина. Они ждали.
Я медленно потянулся к ручке и открыл дверь.