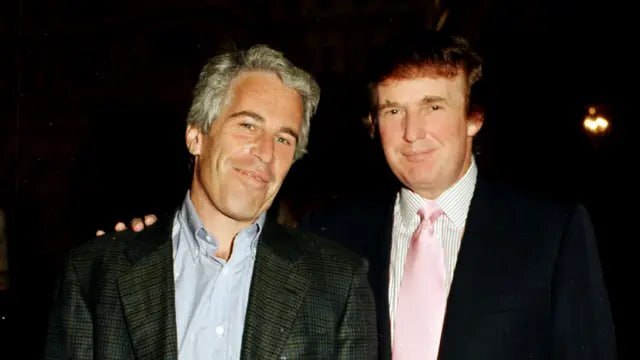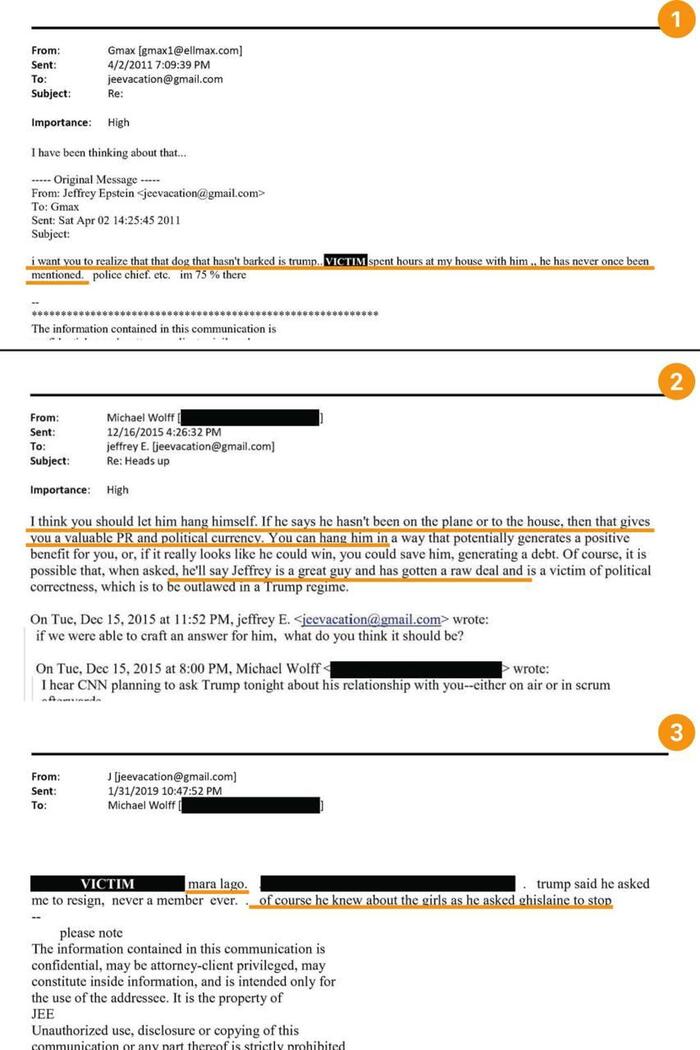«Белый хлеб, красный снег»
Сергей, шестнадцатилетний юноша в новой форме Союза Юнармейцев, с благоговением смотрел на большой портрет в гостиной. Николай II в парадном мундире смотрел на него спокойным, немного грустным взглядом.
«Его оклеветали, — горячо говорил Сергей своему деду, старому профессору истории. — Все эти революционеры, либералы... Они сломали великую страну. А он был святой человек, семьянин. Да, было Кровавое воскресенье — но его ввели в заблуждение, он потом всю жизнь раскаивался! Это единственное темное пятно».
Дед тяжело вздохнул, смахнул пыль с переплета старого альбома. «Темных пятен, Сережа, не бывает. Бывает пролитая кровь, которая чернеет на страницах истории. И "Кровавое воскресенье" было не началом, а кульминацией. Слушай».
Он открыл альбом. Это была не подборка фотографий, а пачка пожелтевших вырезок, писем, копий документов.
«Слава Богу, что энергичные действия начальства прекратили беспорядки...»
«Это резолюция твоего святого царя, — тихо сказал дед. — На отчете о расстреле рабочих в Златоусте в 1903 году. За два года до твоего «единственного пятна». Капитан Лещев выстроил роту и дал команду «Пли!» по безоружной толпе. Потом стреляли вдогонку по бегущим. Погибло больше полусотни. Вот свидетельство фабричного инспектора: «Убита 15-летняя девочка. Портрет царя, с которым они шли, был изрешечен пулями». А вот слова одного из рабочих, чудом выжившего: "Мы думали, начальство образумится, увидев наши мирные намерения. Но они стреляли, точно по мишеням в тире. Старик Кузьмич, несший икону, упал первым, и тогда начался ад"».
Сергей молчал.
«Тяжелый день!... Войска должны были стрелять... было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!»
«Это из дневника Николая от 9 января 1905 года, — продолжал дед. — Твой «акт раскаяния». А теперь послушай другую сторону. Вот воззвание Гапона, того самого священника, который вел людей к Зимнему: «9-го января... нас встретили ружейные залпы... Зверски, без суда убивали они нас... Клянемся... мстить за расстрелянные войсками груды наших трупов». А вот отчет врача, работавшего в приемном покое Обуховской больницы: "Пули были разрывные, наносящие страшные раны. Мы извлекали осколки не только из тел, но и из дерева дверей, в которые впивались шрапнельные пули. Преобладали ранения в спину". Они убегали, Сережа. В них стреляли в спину. А вот запись в дневнике писателя Александра Блока, который пришел на место трагедии на следующий день: "Весь город уже знал. Знало о детях, раздавленных толпой в панике, о стариках, застреленных у самых ворот Зимнего. Знало и молчало, и в этом молчании была страшная ярость"».
Лицо Сергея побелело.
Дед перелистнул страницу. «А это — 1906 год. Революцию подавили. Начинается время «столыпинских галстуков». Такую меткую фразу пустил депутат Родичев. Военно-полевые суды. За полтора года — 1102 смертных приговора. Виселицы стали будничным явлением. Но это была «точечная» работа. А были и карательные экспедиции».
Он достал листок с копией рапорта. «Генерал Меллер-Закомельский в Прибалтике. Читай: «Я действовал так: заняв селение, я высылал во все стороны разъезды, которые уничтожали всех... Селения, в которых раздавались выстрелы, сжигались». Сжигались. С людьми. А вот донесение одного из его офицеров, которое чудом не было уничтожено: "Приказ был ясен: не оставлять ни одного очага сопротивления. Мы понимали это как приказ не оставлять ни одного очага. В деревне Заболотье мы действовали по этому принципу. К утру от нее остались только печные трубы"».
«Нам приказано было не брать бунтовщиков в плен... каждого десятого вешали на глазах у всех...»
«Это из письма солдата, участника такой экспедиции в Сибири, — голос деда дрогнул. — Он описывает, как женщины и дети плакали, а они стояли и смотрели, «чтобы всем было неповадно». Вот она, настоящая, будничная контрреволюция. Не один порыв, а система. А вот письмо матери одного из казненных, отправленное в редакцию запрещенной газеты: "Моего Ваню, моего кормильца, взяли и повесили в четверг на рассвете. Прислали бумажку: "За бунтовщицкие речи и неповиновение властям". Какие речи, ваше благородие? Он просил хлеба для своих детей! Разве за это теперь вешают?"».
Сергей смотрел в окно, но видел не современный город, а заснеженные поля, горящие деревни, виселицы у дорог.
«И это не закончилось, — дед положил перед ним последнюю вырезку. — 1912 год. Ленские прииски. Мирная демонстрация. Рапорт жандарма: "Толпа... продолжала наступать с явно враждебными намерениями... Войска вынуждены были произвести 21 залп..." 21 залп по безоружным! А вот свидетельство выжившего рабочего, опубликованное в «Правде»: "Они стреляли в нас, как в кур. Мы бежали по льду реки... Кровь на белом снегу — страшное зрелище. Раненых добивали прикладами". В отчете сенатора Манухина, который пытался расследовать это дело, есть показания одной из работниц: "Я шла с подругами, мы смеялись, грелись на солнышке. И вдруг — треск, как будто ломают сухие ветки. Я упала, а когда очнулась, мои подруги лежали рядом, и снег под ними был совсем красный"».
Сергей поднял на деда глаза, в которых стояла пустота. Его романтический образ — добрый царь, окруженный предателями, единственная ошибка — рухнул, раздавленный грузом свидетельств.
«Он знал, Сережа, — тихо сказал дед. — Он читал все эти рапорты. Он подписывал указы. Он благодарил генералов за «усердие». В своем кругу он называл революционеров "сволочью", которую нужно "вышвырнуть из России", но своими действиями он лишь множил их ряды. Твоя вера делает тебя слепым. Ты видишь одного невинно убиенного в 1918-м, а не тысячи, убитые по его молчаливому согласию или прямой резолюции с 1903-го. Недовольство не «зарождалось» перед революцией. Оно копилось годами, как вода в прорванной плотине. Его поливали кровью в Златоусте, затопили ею улицы Петербурга в Кровавое воскресенье, удобряли ею поля Сибири во время карательных экспедиций. И в 1917 году плотина не выдержала. Вся эта накопленная ярость, вся боль, все эти голоса — от рабочего Вани, от матери казненного, от девушки на Ленских приисках — выплеснулись и смели всё — и империю, и твоего «святого» страстотерпца, который так и не захотел услышать стук в дверь, пока эта дверь не была выбита таранным ударом истории».
Сергей молча смотрел на портрет. Теперь он видел не только грусть в глазах императора. Он видел за его спиной призраков: девушку с простреленной головой на снегу Дворцовой площади, повешенных «десятого» у сибирской деревни, рабочего, тонущего в кровавом льду Лены, мать, сжимающую ту самую роковую бумажку. И эти глаза уже не казались ему грустными. Они казались пустыми, не видящими того моря страданий, что разлилось по стране под скипетром, который он так небрежно держал в руке.
ВЗЯЛ ТУТ 👈